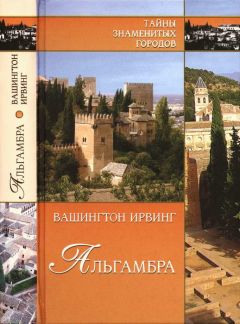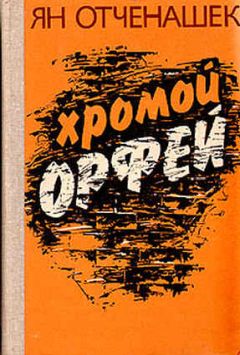Ян Отченашек - Хромой Орфей
- Здесь, видишь ли, никакой стрельбы не будет, пойми! Ты в приличном доме! Патроны спрятаны в другом месте, а может, их и вовсе нет, что весьма вероятно. Долей, прикончим это. Выпьем за мир, которого я не стремлюсь дождаться...
Как он выбрался из этой квартиры? Последнее, что у него смутно осталось в памяти, был Душан: измученный, он спал, утонув в мягком кресле, голова запрокинулась, руки свесились до самого пола. Если бы не подрагивающие веки под спутанными волосами, его можно было бы принять за мертвого. Разбросанные флаги, бутылка с надписанной этикеткой и опрокинутые рюмки составляли вместе с ним причудливую картину. Гонза мучительно сознавал, что Душана надо разбудить, чтоб тот его выпустил. Он стал его трясти и потом помнил только, как шел за ним, качаясь, по линолеуму прихожей с диким ощущением, что внутри у него дребезжит сломанная машина.
Ночь свистела за шторой затемнения, брякала железной загородкой, он расслышал за этими жалобными звуками кашель деда, и этот звук обыкновенной жизни казался теперь ему странным. Читай!
Лампа над головой и слова. Люди, скользившие по этим странным и выпукло-нереальным событиям, утратили третье измерение, это унылые призраки, отбрасываемые лихорадочней фантазией на серую стену. Силуэты - и все же чем-то они реальны. Может быть, точностью, с которой они были подмечены и выхвачены, отблесками и мерцаниями, но он чувствовал в них известную логику, совсем особенную, не столько выраженную, сколько ощущаемую, и небо, под которым они дышали, было мутное, взвихренное. Здесь был целый мир, особый мир, мало похожий на тот, что за окном, и все же мучительно реальный, - его мир, он находил в нем себя. Он сопротивлялся. Нет! Это не твой мир. И не ее. Не наш. Он дрожал в этом мире от пронзительного холода, изо всех сил стараясь воссоздать в памяти ее лицо. Глаза. Руки. Удержаться за нее. Что-то болело и трепетало от леденящего страха перед небытием, он отчаянно сжимал ее в руках, чтобы осень не унесла ее, - не читай дальше! Иди разорви и сожги это в печке, пусть даст хоть немножко тепла! Нет! Это будет преступление! Боже мой, уметь так писать! Может быть, для этого нужно продать душу дьяволу. Уверенность, точность и в то же время трепетная прозрачность фраз, улавливающих самые хрупкие, мерцающие ощущения. Память и эрудиция, которой с мучительной завистью отказываешься верить! Пожарище, обнаруженное за кулисами самой обыденной повседневности, маски, развешанные в пустоте. Небытие. Жестокость. Гибель. Война. Отчужденность, прикованная словами к бумаге. Некоторые заглавия казались на первый взгляд невинными: "С бухгалтером Н. произошло нечто неслыханное". И тянется в рассказе жизнь обыкновенного, ничего не подозревающего человека - семья, канцелярия с тупой, выдохшейся от бесконечных повторений болтовней, спокойствие жвачного животного, а потом вдруг - точка! Непостижимо, неизбежно, неумолимо, неслыханно - смерть! Смысл? Никакого! Многоточие... Сострадание? Где там! Ничего, ничего. Любовь? Двое людей, окутанные в чувственность, в броне собственных тел, все происходит незаметно, не вызывая никаких подозрений, а потом вдруг что-то разладится и ты всматриваешься во тьму ощущений, которых не преодолеешь в себе, и тебе хочется кричать. Скрыться. Смерть. Справиться с ее угрюмой нелогичностью, признать ее с отвращением, как все, что исключает возможность перемены. По логике смерть должна бы последовательно соответствовать процессу рождения: случайный выбор, совершающийся вне тебя, воспламенение в гостеприимных недрах, рождение - и медленное ненавистное движение к бессознательности. К ней! К противоположности! И тут же сложное рассуждение о музыке. О маленьких, беззащитных зверюшках, рассуждение непостижимо простенькое и трогательное, как детская песенка. Мимолетные портреты: проходят лица с оружейного завода, коллаборационисты, рабочие, тотальники, женщины, те, кто собирается у Коблицев. Картинка с надписью: "Блюз, или наслаждение невольным воровством". Папаша Полоний с подзаголовком: "Опыт биологического исследования о честном и полезном человеке". Он описан с леденящим беспристрастием, без признаков антипатии и - что уж совершенно непонятное - даже с восхищением, как перед чужим непонятным миром, где взгляды, мысли и чувства подчинены иным законам: папаша Полоний и не осуждается ни с моральной, ни с какой иной точки зрения он только холодно констатируется. Стихотворение? Еще одна печальная процессия, лица, увиденные в свете тщеты и тайной, скрываемой жалости, колеблются и тают, это корабли в ночном море, а вокруг них- пустота.
Спасенья нет! Дальше!..
...Кто-то трясет его за плечо, будит: дед! Голова вот-вот расколется, и в желудке роется голод. - Что не гасишь?
Лампочка над головой все еще горит, а в окно уже заглянуло осеннее утро, дождливое и унылое, как нищенский плащ.
Он опомнился, соскочил сразу обеими ногами с дивана, скорей, скорей туда, я должен зайти, скорей штаны, рубашку. Дед обиженно посмотрел на него, когда он только проглотил стакан чуть теплого эрзац-кофе и ринулся к двери. Лестница, вниз через три ступеньки!
Дождь!
Подняв воротник, он шел, все быстрей и быстрей мчался по знакомым улицам; на проспекте остановился у обочины тротуара, чтоб отдышаться.
Военная машина обдала его брызгами.
Еще две улицы! Смятенье его росло с каждым шагом. А потом произошло что-то непостижимое. Завернув за последний угол, он вдруг увидел Душана в нескольких шагах от себя!
Не поверил глазам своим. Изумленье приковало его к месту. Душан!
Шедший навстречу еще не заметил его, он приближался, опустив голову, словно пересчитывая плитки тротуара, в измятом дождевике и без шляпы; в руке он покачивал продуктовую сумку, в ней были бутылка молока, пакетик цикория и полбуханки хлеба в промокшей бумаге. Вид был жалкий, заурядный - услужливый сынок, сбегавший в лавочку.
Только не дойдя двух шагов до Гонзы, Душан остановился - может быть, почувствовав препятствие, - и поднял голову. Лицо его было бледней, чем обычно, глаза, обведенные синими кругами, глядели в пространство. Но вот он понял, растерянно показал сумку и пожал плечами. Дождевые капли стекали по его плащу, мочили волосы.
- Привет! - хрипло выдавил Гонза и откашлялся.
О чем говорить? Все ясно! Что же дальше? Что дальше? Они молча пошли вместе по мокрой мостовой к знакомому дому. Душан простуженно покашливал, дрожа от холода, сумка смешно била его на ходу по коленям. Лишь за несколько шагов до парадного он поднял голову, рассеянно огляделся и нарушил молчание:
- Ты думаешь, что я выкинул дурацкую шутку?
Гонза постарался придать своему голосу оттенок укоризны:
- Да нет.
Казалось, стоящий перед ним незаметно вздохнул с облегчением, поглядел на носки своих ботинок.
- Но если бы...
- Не надо об этом! - прервал Гонза, тронув то плечи. - Ты хочешь, чтоб я тебе вернул? - деликатно спросил он, как говорят с тяжелобольными, но увидел, что этот спокойный вопрос заставил Душана передернуться.
- А что? - вырвалось у него. Наверное, он все-таки не сразу понял, но теперь раздраженно покачал головой и закусил губу. - Что ты, собственно, думаешь? - с измученным видом прошептал он, побледнев.-Мол, как угодно! Позер! И когда все это кончится? Все время дождь. Чего вы все от меня хотите? Оставьте меня, наконец, в покое! Все! Все!
- Успокойся!
Гонза слегка встряхнул его, но почувствовал, что в нем уже закипает гнев. Он овладел собой.
- Я ведь по-хорошему.
- Знаю. - Душан сразу ослаб, стоял перед ним с этой смешной сумкой в руке, выражение мучительного стыда застыло на его опустошенном лице. Отводил взгляд. - Знаю.
И потом, словно боясь, что самообладание изменит ему, круто повернулся и, не прощаясь, пошел, вернее, побежал, согнув спину, непонятный, замкнувшийся в себе.
Гонза смотрел ему вслед, пока тот не исчез за массивной дверью, и в это мгновение что-то в нем робко шевельнулось. Тоска? Предчувствие? Что-то без очертаний. Зачем я с ним встретился? Дождь припустил, стуча о камни. Ступай дальше! Он взглянул на грязно-серое небо и зашагал со странным ощущением, что мостовая у него под ногами шевелится и мир перед глазами расплывается.
Куда я, собственно, иду?
Часть третья
I
- Это сплетня, - заявил решительно Богоуш. Он сердито скреб свою реденькую бородку, так как сообщения Леоша не выдерживали никакой критики с научной точки зрения.
- Что ж, сплетня так сплетня, - презрительно ухмыльнулся Леош. Речь шла об Анделе и Славине.
- Вы видели их обеих утром? Андела прикатывает иной раз измученная как кошка, вокруг глаз такие кольца, что хоть качайся на них, а Славина выспалась, розовая. За ранним завтраком обе сестры сближают головы и перешептываются. Ясно, о чем. Эта продувная шлюшонка шепотом расписывает, что парень с ней делал, а Славина вся дрожит. А после завтрака наоборот: у Славины под глазами круги и лицо такое, будто всю ночь кутила, а Андела расцвела. Умылась живой водой и - как ни в чем не бывало.