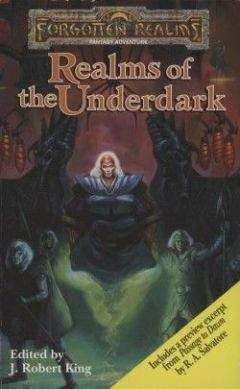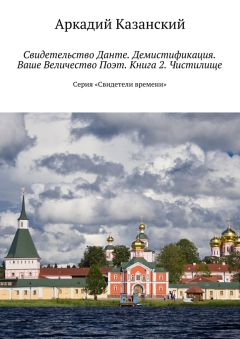Николай Самвелян - Крымская повесть
— Раз у дома Симоновых дежурят, значит, кто-то все же узнал о Спартаке?
— Не обязательно. Если бы точно знали, что Спартак у Симоновых, давным-давно взяли бы дом штурмом. На этот раз всем нам повезло. С вашего разрешения я напишу записку Людмиле Александровне. Передайте ее завтра же.
Утром гость удалился, унеся с собой пакет. Владимир подошел к окну. Море и небо были почти одинакового сизо-серого цвета. Трудно было даже определить линию горизонта. У входа в залив все еще дежурили две канонерки. Они были тоже серыми, но более густого цвета и чем-то напоминали притаившихся в кустах охотничьих собак. Увидят дичь, услышат сигнал ловчего — и бросятся в погоню.
Из донесений ротмистра Васильева осенью 1905 года начальнику Таврического жандармского управления«…К сему доношу, что получил сведения, что около Малахова кургана была большая сходка, человек 250. Интеллигенты подготовляли сходку к забастовке, читали про забастовку в С.-Петербурге и разъясняли ее. Окончательное решение еще не принято. На днях будет еще сходка… От своих людей я накануне забастовки получу извещение о времени ее начала…»
«…По окончании портовых работ на ремонтируемом броненосце „Три Святителя“ найдены были прокламации, числом 6, в двух видах: одни на четвертушке, воспроизведенные каучуковыми буквами, под заглавием „Ко всем рабочим г. Севастополя“, другие отпечатанные на мимеографе (оригинал рукописный) под заглавием „Ко всем рабочим и работницам Севастополя…“»
«…Чинами полиции, которых я предупредил о месте и времени сходки, было задержано в Лабораторной балке, у вокзала, несколько человек мастеровых, возвращавшихся с ночной сходки. При обыске личном у одного из них найдено в 2 свертках 37 печатных брошюр и 42 прокламации „К рабочим г. Севастополя“. Эти прокламации раздавали на сходке городским рабочим. У остальных ничего не найдено…»
Гроза над морем веселым
Затянувшееся лето закончилось внезапно. Ветер пригнал из Джанкойских степей сизые тучи. Правда, горы на время задержали их. В Ялте стало парко. Старожилы утверждали, что духота в это время года обязательно к смене погоды. Не сегодня завтра тучи перевалят через главный хребет, и тогда на Ялту обрушатся дожди — короткие и злые. Так и случилось. Вслед за тучами в Ялту ворвались холодные северные ветры. Впрочем, старая часть города была лучше защищена горами. И потому в комнате Владимира было тепло. Не приходилось даже разжигать старенькую жаровню. Найти подрамники под холсты такого размера, какой требовался Зауэру, было просто нереально. Да и подрамник не вошел бы в дверь. Загрунтованный холст был расстелен на газетах на полу. И все равно его пришлось скатать в рулон, а писать картину — как дети, пробующие копировать по расчерченным клеточкам. Оригиналом Владимиру служила собственная небольшая акварелька. Как-то раз он написал ее во время прогулки с Надеждой к ливадийским скалам. Море в тот день было действительно на редкость спокойным, штилевым и даже сонным. О таком и мечтал Зауэр. Оставалось перевести акварельку в масло и увеличить не более и не менее как в сорок раз!
Заполнив несколько условных клеток, Владимир давал холсту подсохнуть, а затем сматывал его и принимался заполнять очередной квадрат. Для любого художника в такой работе мало веселого. Да и вообще, отличная копия — это всего лишь копия, не более. Даже если ее именуют очередным авторским вариантом.
Времени, свободного от службы в фотографии господина Симонова, оставалось не так уж много. А темнело уже по-осеннему рано. Приходилось писать даже при двух зажженных лампах, что было делом рискованным — можно сбить цветовую гамму. Но Зауэр торопил. Дважды присылал записки с просьбой сообщить, как продвигается работа. Более того, «он есть был готов» прибыть и посмотреть, что уже сделано. А сделано было совсем не то, чего жаждала душа Зауэра. Произошло нечто неожиданное для самого Владимира. Как ни старался он точно следовать акварели, ничего не выходило. Возникала совершенно иная картина.
Да, это было море. И именно Черное море. Нервное. Капризное. Непостоянное, как ни одно другое. Оно казалось спокойным, штилевым, нежащимся под лучами ласкового солнца. Но если присмотритесь к нему повнимательнее, возникали сомнения: так ли уж оно игриво и беззаботно? Тут, на его берегах, испокон веку вершились дела серьезные, отзвуки которых доходили до всех столиц мира. Тут всегда лилась кровь, но и всегда цвели цветы. Тут явь смешивалась с легендами. А со временем легенды так прочно входили в сознание людей, что начинали казаться былью… В общем, это было мудрое, много повидавшее на своем веку море — и корабли аргонавтов, плывшие за золотым руном в Колхиду, и первых греческих поселенцев в Керчи и Херсонесе, и свирепого Ахилла, будто бы жившего в этих краях до того, как переселиться в Грецию, а затем погибнуть в Троянской войне, развязанной из-за кокетливой Елены, полюбившей нежного Париса. Недалеко от Ялты томилась в изгнании дочь Тесея Ифигения, воспитанная тем самым аргосским царем Агамемноном, который возглавлял поход греков против троянцев. Ифигении пришлось пережить в Крыму много мучительных дней, пока ее наконец не вызволили и она не уплыла через море к острову Левка, где стала женой Ахилла. На столе у Владимира лежала только что изданная в Симферополе в русском переводе драма Еврипида, посвященная Ифигении, ее капризной и мученической судьбе. Трудно было представить себе, что строки, ставшие теперь вполне современной книжкой в кожаном переплете с золотым тиснением, были написаны два с половиной тысячелетия назад. Мог ли Еврипид предположить, что его будут помнить, читать, переводить, что некий безвестный ретушер, мечтающий стать художником, истратит последние гроши, чтобы купить его трагедию, неожиданно превратившуюся в нарядную книгу, набранную шрифтом, который самому Еврипиду был бы уже недоступен? А тот язык, на котором Еврипид писал, ушел навеки, уступив место другим, но бессмертной стала легенда об Ифигении, пожертвовавшей собой во имя людей… И во всем этом тоже была своя особая логика бытия… Удивительным было это море. Как глаз истории, глядящий из глубины веков, наблюдало оно за тем, что происходит на его берегах. И будь наделено оно разумом, могло бы сравнивать, сопоставлять жизнь времен минувших и нынешних. В Пантикапее, носящем теперь имя Керчь, покончил с собой царь Митридат, дерзновенно посмевший поднять войну против надвигавшихся с запада римлян. Тут же Савмак мечтал основать государство Солнца. И выбил в честь самого себя и Солнца монету. Но римляне пришли и сюда. Их тяжелые когорты маршировали по улицам древнего Херсонеса. Они принесли с собой грубость, презрение к роскоши и любовь к жестокой забаве — гладиаторским играм. Но Черное море видело всякое: и грозные империи, которые в конце концов все же разлетались, как упавший на пол глиняный сосуд, и надменных завоевателей, очень скоро бежавших с его берегов в те дальние страны, откуда пришли.
Нет, море получалось на картине совсем не таким, каким надеялся увидеть его Зауэр. Оно было не олицетворением вечного покоя и безмятежности, а мудрым созерцателем, много знающим и много думавшим над судьбами людей и народов.
Это поняла Надежда. Как-то раз она сама, без предупреждения, пришла к Владимиру. Извинилась за внезапный визит, но, казалось, смущения не испытывала. А само извинение было данью формальной вежливости.
Владимир был в синем чесучовом халате, с кистью в руках. Дверь за гостьей закрыл локтем — руки были в краске.
— А море-то у вас живое, — сказала гостья. — Не беспокойтесь, я присяду здесь, на табурете. Скоро уйду. Нет, право же, море вам удалось. О чем вы думали, работая над картиной? Почему пишете по памяти? Чтобы не быть рабом натуры? О, отлично понимаю. У моря множество ипостасей. Написать его с натуры — значит зафиксировать всего лишь один из тысячи, а может быть, даже из миллиона ликов его… Вы же пытаетесь передать саму сущность его. Дерзновенная, но благородная задача.
— Но я и не думаю писать по памяти. Копирую собственную же акварельку. Она на столе. Вы должны ее помнить.
Надежда повертела в руках акварель, небрежно бросила ее на стол.
— Ничего общего с той картиной, которую вы сейчас пишете. Давно ли вы виделись с Людмилой Александровной?
— Позавчера.
— Тогда же нарисовали ее портрет? — Каким образом Надежда так быстро отыскала в ворохе бумаг именно этот карандашный набросок, можно было только гадать. — Похоже.
— А сделано как раз не с натуры, а по памяти.
— Да? Ну, может быть. Вообще-то мне все равно. Хотя иной раз я сама себя подозреваю в том, что не люблю ничего для меня самой недоступного. Дело не в зависти. Это другое. Я не могу в минуту, играючи, сделать такой рисунок. И мне инстинктивно хочется спрятать рисунок подальше. Кстати уж, и о Людмиле Александровне. Вы слышали, как она поет? Нет? Мне довелось однажды. Наверное, у нее хороший голос. Может быть, даже выдающийся. Сильный, мощный и свободный. И вот именно эти-то мощь и свобода меня отталкивают. Даже в чем-то оскорбляют. Мне приятнее неумелые рисунки и не столько настоящее пение, сколько этакое напевание тихим голосом. И желательно, чтобы аккомпанементом было не фортепиано, а, например, гитара…