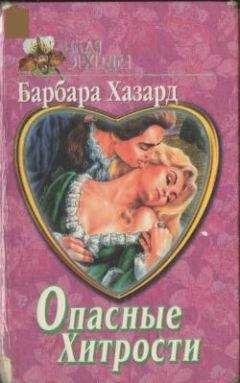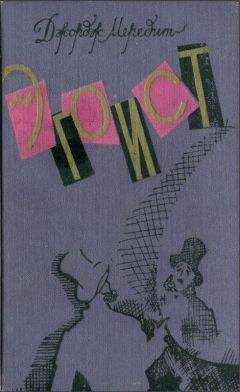Арман Лану - Майор Ватрен
Гнев майора между тем прошел.
— В самом деле, капитан Бертюоль, — промолвил он своим низким голосом, — нет никаких оснований думать, что сюда может явиться кто-нибудь из штаба сегодня ночью. Или завтра. Никаких оснований.
Его голос звучал серьезно. Он опустился в кресло.
— Душман! — позвал он.
— Господин майор! — ответил чей-то заспанный голос из соседней комнаты.
— Кофе.
— Поставлен на огонь, господин майор.
Ватрен оглядел своих офицеров.
— Раз вы еще не легли, Субейрак, вы пойдете со мной.
— Слушаю, господин майор.
— И вы будете всю жизнь помнить эту ночь.
Душман принес кофе.
— Несколько капель малиновой настойки в кофе, господин майор… — предложил Бертюоль.
— Хорошо, — согласился к общему удивлению майор.
Потом, как бы извиняясь, почти машинально сказал:
— У нас это называется огневым настоем.
Он выпил обжигающую смесь, вытер усы и, наконец, решился:
— Господа, полковник Розэ прислал мне солдата, которого надо расстрелять.
На них повеяло ужасом.
— Это рядовой запаса, он прибыл утром из Парижа. Только что приговорен к смерти военным судом. Он был зачислен в первую роту первого батальона.
— Благодарю от ее имени, — сказал капитан Блан.
Это было первое слово возмущения, который Субейрак услышал от него за девять месяцев их знакомства.
— Солдат находится на КП вашей роты, Блан. Вы должны обеспечить его охрану.
Только сейчас Субейрак подумал о том, что он командует третьей и что ему очень повезло. Ватрен протяжно вздохнул, со свистом выпустив воздух через сжатые зубы. Он продолжал:
— В моем батальоне нет больше кадровых лейтенантов. Самый младший из офицеров запаса — это…
Все молчали. Они старались вспомнить.
— Это Пофиле.
Как это должно было потрясти крестьянина Пофиле!..
— Казнь будет совершена в пять часов. Сейчас двадцать три часа двадцать семь минут. Сверьте свои часы. Блан, вы распорядитесь разбудить его в четыре тридцать. Если он будет спать. Дюрру, вы нам будете нужны.
Дюрру кивнул и выпил бокал настойки. Его рука слегка дрожала.
— Я вместе с Субейраком позабочусь об остальном.
Бертюоль еще медленнее, чем обычно, вставил сигарету в мундштук.
— Господин майор, прошу прощения: больше ничего неизвестно о… об этом прискорбном деле?
— Одну минуту, капитан Бертюоль. Капитан Блан, ваша рота завтра дежурная. Вам положительно не везет. Вышлите завтра команду из шести человек к памятнику погибшим.
— Ну конечно, — сказал вполголоса Дюрру.
Впрочем, какое же еще место встречи можно было указать глухой ночью в деревушке, где они не пробыли и трех часов.
— Шесть человек и капрала с шанцевым инструментом… Бертюоль, я мог бы ответить вам, что мне ничего неизвестно. Я должен был бы так ответить. Но я понимаю. Я вас понимаю. Я не знаю почти ничего. Знаю только, что сегодня, 27 мая, солдат, прибывший с частью из Парижского округа, предстал перед военным судом на КП дивизии в предместье Меца. Он был признан виновным в мятеже, направленном против личности полковника…
Дюрру встал и подошел к радиоприемнику. Послышался свист, скрежет, завывание, потом раздались звуки пасо-добле.
— Это — из страны корриды, — заметил Дюрру. — Вы никогда не видали корриду, господин майор?
— Выключите приемник, — сказал майор. — До свиданья, господа.
Майор и офицеры столпились у вешалки из оленьих рогов, надели кепи и пилотки, подтянули ремни. Сердцебиение у Субейрака не проходило. Он чувствовал, что кровь отливает от его лица, ставшего белым, как у больного ребенка. Бертюоль осторожным, но уверенным движением руки на секунду сжал его плечо.
— Субейрак, за мной.
— Слушаю, господин майор.
Когда он вышел за дверь, в лицо ему хлынула волна горячего грозового ветра, который хлестал по деревьям и поднимал вихри пыли. Он услышал, как майор откуда-то издалека сказал:
— Полковник Розэ всегда был очень милостив к первому батальону и его командиру, Бертюоль. Спокойной ночи.
IVМайор, батальонный писарь и лейтенант Субейрак шагали в полном молчании. Казалось, луна быстро плывет по темному, как чернила, ночному небу. После полного мрака она появлялась внезапно, в разрывах между быстро несущимися облаками, и изливала на деревню потоки материнского, ласкового света, четко выписывая мягкие лиловые тени и словно насыщая воздух густыми прозрачными испарениями.
В Мелёне, в Высшей педагогической школе, где он все свободное время посвящал изучению психоанализа, Субейрак как-то вычитал, что некогда, в доисторическую эпоху, уважение к материнству связывалось с почитанием луны. Он узнал, что самый потрясающий переворот в сознании людей был вызван открытием, что женщин оплодотворяет мужская сила, а вовсе не дух предков; тогда люди поняли, что не прихотливая луна, а солнце — олицетворение величия и порядка — властвует над людьми и что мир принадлежит Адаму, мужчине. Эта удивительная история, которую бесполезно искать в учебниках, открылась ему в семнадцать лет, когда в нем самом произошел переворот, некогда совершившийся в Адаме, и он вышел из-под влияния женщин — матери и бабушки, воспитавших его после ранней смерти отца. Таким образом он сразу перешел из теплого, мягкого, уютного мира в жесткий, неумолимо последовательный мир геометрических форм. Сегодня Франсуа измучился до предела; он двигался, словно бегун, обретающий второе дыхание. И это состояние крайнего утомления, без участия его сознания, вернуло его к ощущениям детства, к предыстории его собственного существа и даже к детству человечества со всеми его страхами, чарами и чудесами.
Все трое шли молча, и шаги их гулко отдавались по деревенской улице.
Они миновали памятник павшим бойцам. При ночном освещении эта мрачная группа казалась особенно бредовой. Вся деревня спала: и солдаты, и население. От гула далеких разрывов тишина этих холмов, которые местные жители простодушно называли горами, казалась ему более глубокой. Вода у колодца, где какая-то женщина в ярком золотистом платье библейским и манящим движением подала им напиться из своего кувшина, журчала, напоминая о далеких каникулах, о больших, шумливых источниках и фонтанах на Юге, в Провансе, в Лангедоке и в Сердоне.
Субейрак с изумлением заметил, что журчание воды взволновало его до дрожи: слишком явственно он представил себе, как женщина, державшая кувшин, стонет в объятиях одного из его солдат, сливая в протяжном стоне боль и страсть, слезы и упоение, как Анни в минуты любовного примирения.
Анни. Имя ее вдруг вспыхнуло в его душе. Она была рядом с ним в письме на тонкой бумаге, в письме, которое ему никак не удавалось прочесть с тех пор, как он вошел в Вольмеранж.
Ему стало стыдно своей проснувшейся силы, а между тем, это было естественно. С сентября Франсуа жил в полном воздержании, если не считать короткого свидания с Анни во время неудачного отпуска в январе да встречи с красивой грубоватой лавочницей на привале перед Люксембургом. Он искал убежище для своих солдат на случай бомбардировки, и эта женщина пошла показать ему свой подвал. Внезапно она прижалась к нему с криком: «Ой, крыса!» — а потом, чтобы показать ему, как сильно бьется ее сердце, она положила руку приглянувшегося ей лейтенанта на грудь… Это было все. Вслед за тем война отделила его от всего мира.
О Анни, Анни, что ты сейчас делаешь? Где ты? Должно быть, ты спишь в своей затемненной квартирке под самой крышей на улице Шевалье де ла Бар, где мы были так несчастны и так счастливы. Спи спокойно, Анни, тебе никогда, никогда не узнать о том, что произошло этой ночью.
Изредка прожекторы ПВО ощупывали бронзово-зеленые облака, откуда исходил неясный гул. Ибо этот мир, на одно мгновенье отданный Еве и Луне, все же оставался миром моторов и машин.
— Ришар, — сказал майор батальонному писарю, — вы найдете дом мэра?
— Это тут недалеко, господин майор. В конце еловой аллеи…
Дорога шла вверх, взбираясь на холм, и ели, остроконечные и мрачные, как капуцины, стояли по краям ее, точно охрана. Писарь Ришар говорил без умолку:
— Этот мэр — маленький толстяк, он все время смеется. У него в сарае я видел перегонный куб. Он гонит самогон, и я тоже, господин майор. Но только не из мирабели. На севере мы гоним самогон из крупной сливы. Может быть, он догадается поднести нам стаканчик, этот мэр, как вы думаете, господин лейтенант?
Чувствуя безразличие майора, болтливый писарь, бывший чиновник из Бушена, повернулся к лейтенанту. Франсуа понял: Ришару было страшно. Хоть это и было весьма несправедливо, но Франсуа собрался одернуть его, только чтобы подавить в Ришаре страх, который ощущал в себе самом. Но вдруг он споткнулся, упал и выругался. В ладонях Франсуа ощутил мягкий, еще теплый, покрытый хвоей песок и зажал его в кулаке, пока Ришар помогал ему подняться. Он сделал несколько шагов, песок медленно вытекал у него между пальцев. Не удержать песка в руке. И жизнь человека, которого они собирались убить, утекала, как этот песок.