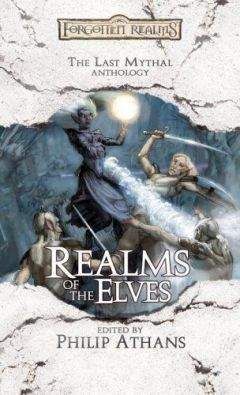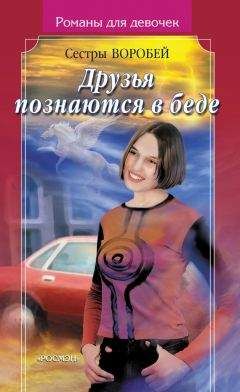Алан Джадд - Дело рук дьявола
Эдвард относился ко всему этому как-то неоднозначно - не соглашаясь, но и не опровергая. Помню, я тогда говорил, что успех ничуть не изменил его, и в каком-то смысле так оно и было: он жил и работал все там же, я приходил к нему, как раньше. Наша дружба оставалась прежней. Возможно, потому, что она была не столь глубокой, как мне хотелось думать; возможно, для Эдварда это было не более чем просто знакомство, а элементы чего-то другого появились позже. В тот вечер, когда я принес книгу для подписи, все шло как всегда. Мы беседовали и пили кофе, я протянул ему книгу. Он был знаком с моим другом, которому она предназначалась, и сказал, что не только поставит подпись, но и напишет что-нибудь от себя.
Я сидел в металлическом кресле, а Эдвард боком у стола, на своем вращающемся стуле, занеся ручку над открытой книгой. Он медлил, обдумывая, что написать, а я рассеянно скользил глазами по белым стенам, по полкам с новенькими книжными корешками, - я бы не смог жить в столь стерильной комнате, настолько лишенной человеческого тепла. Услышав царапанье пера по бумаге, я оглянулся на Эдварда. Его ручка неподвижно зависла в дюйме от открытой страницы - а скрип не прекращался. Я оглядел комнату в поисках источника звука, но не верилось, чтобы это было что-то другое. Я слышал ритм быстрого размеренного письма и мог различить даже короткие и длинные слова и знаки препинания. Звук был такой, словно бумага шероховатая, а перо погрубее современных, как те, что обмакивали в чернильницу, или даже гусиное. Во всегдашней тишине этой комнаты негромкий беспрестанный скрип слышался особенно отчетливо.
Эдвард застыл - с ручкой, занесенной над собственной открытой книгой. Левой рукой он придерживал страницу, на лице - отрешенная сосредоточенность. Он казался необычайно юным, с гладкими мальчишескими щеками, и напомнил мне Шанталь, когда я однажды подсмотрел, как она играет на пианино. Она не была опытной пианисткой и не знала, что за ней наблюдают; она напряженно вслушивалась в паузы, и лицо у нее было далекое и самозабвенное, как сейчас у Эдварда. Увидев меня, она в первое мгновение растерялась и смутилась, потом рассердилась и в итоге быстро прекратила свои упражнения.
- Что это за шум? - спросил я Эдварда.
Он вздрогнул, как от пощечины, и какое-то мгновенье казалось, что он не понимает, откуда исходит вопрос.
- Какой шум?
Я вдруг почувствовал себя виноватым и захотел оправдаться.
- Этот скрип. Мне послышалось, что кто-то пишет, я подумал, что это ты, но ты не двигался.
Он пристально посмотрел на меня.
- Ты слышал?
- Да. Ручкой по бумаге. Ну да, точно. Точно-точно.
- И долго?
- Последние минуты две. Как только ты задумался, что писать.
- А сейчас слышишь?
- Нет.
Он опустил глаза:
- Это бывает, только когда я думаю. - Быстро надписав книгу, он протянул ее мне.
- Как тебе кажется, что это? - настаивал я.
Он смотрел на меня так, что мне стало не по себе, - словно он примеривался к моему будущему, не спрашивая меня. Синева его глаз настолько усиливала их выразительность, что еще чуть-чуть - и стала бы пугающей.
- Ты ел? - спросил он.
Я не ужинал; в тот вечер Шанталь не было дома, и я собирался купить жареной рыбы с картошкой.
- Давай поедим здесь, - сказал он. - Там на плите есть кое-что.
Он поднялся и повел меня по коридору на кухню. Я никогда не ел у Эдварда, я и не знал, что он пользуется плитой; он никогда не готовил. Я так удивился, что забыл о скрипе.
В кухне была женщина. Я не смог скрыть своих чувств. Помню, я надолго застыл в дверях, так что Эдвард, обойдя меня, недвусмысленно поторопил:
- Входи, входи.
Она была ниже, чем я помнил, но я не мог ошибиться - те же темные волосы, темные глаза и резковатая лукавая красота. Волосы завязаны в хвост, как тогда в ресторане с Тиррелом, что подчеркивало чуть азиатский разрез глаз и скулы.
- Это Эдокси, - произнес Эдвард.
Мы пожали друг другу руки. По акценту я решил, что она француженка, о чем и сказал.
- Частично, un peu. Всего понемножку. - У нее была темнокрасная губная помада, и, когда она улыбалась, зубы казались особенно белыми и ровными.
- Она поест с нами, - лаконично бросил Эдвард.
Она опять улыбнулась и начала возиться у плиты, а мы с Эдвардом устроились по обе стороны маленького столика. Поставив между нами бутылку и налив по бокалу красного вина, она подождала, пока Эдвард попробует, - словно служанка. Похоже, она выбрала себе именно эту роль и за обедом говорила мало. Я пребывал в восхищении; она была удивительно красива - смотреть на ее лицо было как смотреть на огонь, в нем завораживали те же непрерывные вспышки непостоянства, та же неизменность перемен. Меня поражало и то, как они держатся друг с другом. В роли восточной жены она была не очень убедительна; но складывалось впечатление, что они вместе уже очень давно и отношения у них спокойные и семейные - слово "семейные" снова и снова приходит мне на ум, когда речь заходит об Эдокси, - словно стадия танцев журавлей, через которую проходят почти все пары, у них давным-давно позади.
За обедом - цыплята с чесноком, луком, оливками и рисом - мы с Эдвардом говорили о книгах. Эдокси ела молча, за исключением единственной интерлюдии. Я упомянул Дж. П. Каррэна, писателя, сейчас известного еще менее, чем тогда, который тоже встречался с Тиррелом. Не помню, к чему я его вспомнил, но подозреваю, что казалось неловким прямо спросить о ее связи с Тиррелом. Упоминая Старика, я неизменно запинался, а за этим обедом я упомянул его раз десять. Так или иначе, печальная история Каррэна такова: он написал блестящий роман, вследствие чего был приглашен погостить у Тиррела - нечто столь же неслыханное, как и приглашение Эдварду. Возможно, Тиррел увидел в Каррэне ученика. Так или иначе, что-то у них не заладилось, и Каррэн быстро уехал. Он не оставил свидетельств о своем визите, но ходили слухи, что, когда его настигла преждевременная смерть, он писал роман о Тирреле; рукопись этого романа найти так и не удалось.
Я говорил: какая потеря; Эдвард отвечал, что не читал его книги. Эдокси изящно поднесла ко рту вилку и пожала плечами.
- Сам виноват, - сказала она. - У него был шанс, он им не воспользовался.
Я спросил, что она имеет в виду.
- Он мог бы написать гораздо больше книг, если бы принял то, что ему предлагали.
Она сказала это явно без всякого сочувствия. Хотя в моих словах не было ничего обидного, мне показалось, что они ее задели. Я попытался сгладить ситуацию:
- Что ж, жаль,что теперь уже мы никогда не прочтем тех книг, которые он мог бы написать.
- Прочтем, - резко сказала она. - Книги так же неизбежны, как и писатели. Они приходят, когда наступает их время. Книги, которые мог бы написать Каррэн, напишет кто-нибудь другой.
Она произнесла это странное утверждение с такой уверенностью, что я не стал спорить. Эдвард любил порассуждать о том, что книги "предсуществуют", ожидая, когда их напишут, и что писатель - только повивальная бабка, но я полагал, что это просто метафора. Эдокси же говорила буквально, с несокрушимой уверенностью, как о чем-то само собой разумеющемся, - при этом ее никак нельзя было назвать дурой. Потом мне показалось, что между ними что-то произошло. Ничего особенного, просто взгляд - просто он на нее взглянул. Она в это время смотрела на меня, поднося вилку ко рту, и я не знаю, заметила ли она его взгляд; может быть, почувствовала. Глаза его были полны покорности - что, казалось мне, совершенно несовместимо с Эдвардом, - немой, почти собачьей покорности. Потом я не раз видел у него такой взгляд, и всегда он шел вразрез с общим рисунком ее роли - роли привилегированной служанки, которая смотрит сквозь пальцы на хозяйские забавы с другими женщинами. Больше всего меня поражало то, что он подчиняется ей в вопросах литературных - я стал подозревать, что и во всех остальных областях он действует словно бы по лицензии, хотя и щедрой. Не то чтобы она не позволяла ему писать то, что он хочет; просто время от времени выдавала какое-нибудь ошеломительно безапелляционное высказывание по вопросу происхождения литературы или вдохновения, и Эдвард молча соглашался. Это было на него непохоже - или, точнее, это было непохоже на прежнего Эдварда, но похоже на того, каким он стал.
В тот вечер, когда он провожал меня, мы, разговаривая, остановились у дверей. Впервые с тех пор, как мы познакомились, я почувствовал, что он хочет поговорить. Мы стояли на ступеньках и обсуждали викторианскую архитектуру; наблюдая, как ветер несет по улице мусор, мы обсуждали нынешнюю неряшливость; еще немного - и мы бы заговорили о звездах, случись нам взглянуть и на них. Такая перемена в Эдварде столь меня поразила, что я осмелел и снова спросил, чем, по его мнению, вызван скрип пера по бумаге.
Он смотрел, как ветер несет вдоль ограды газету, которая делала противоречивые и бесплодные попытки спастись, увлекаемая все дальше и дальше по улице.