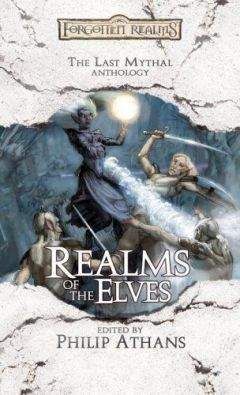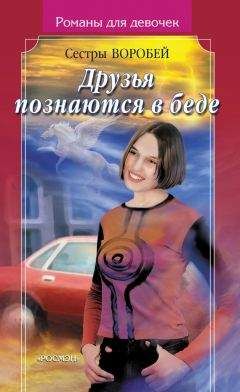Алан Джадд - Дело рук дьявола
Тиррел снова заговорил. Он сказал то ли "Это вам" или "Это предназначено для вас" - Эдвард не расслышал, потому что голос его стал тише шепота. Это были последние слова Тиррела.
Эдвард взял манускрипт. Мгновение Тиррел не выпускал его, изо всех сил вцепившись дрожащими скрюченными пальцами и глядя на Эдварда безумным несфокусированным взглядом, как будто передавал некую святыню. Потом руки Тиррела ослабели, и он начал падать. Его еще живые глаза наполнились ужасом, слепым сплошным ужасом - изнутри; так море заполняет корабль сквозь пробоину в днище. "Ужас" не совсем подходящее слово, сказал Эдвард, но другого не подберешь. Он подумал: это оттого, что Тиррел прочел его мысли. Даже когда Старик уже падал, Эдвард думал исключительно о том, что теперь манускрипт его и можно им пользоваться, и никто ничего не узнает. Вряд ли это нормально, но подозреваю, что многие писатели думали бы точно так же, при этом ничего не предпринимая. Он решил, что именно поэтому Тиррел с такой силой вцепился в манускрипт и выпустил его из рук лишь в послед-ний миг.
Старик был большой и упал громко, опрокинув стул и ударившись головой о косяк двери. Распростертый на полу, он казался еще больше. Одно плечо уперлось в стену, и голова неестественно повернулась, как у цыпленка со сломанной шеей. Много лет спустя Эдвард все еще вспоминал, какие большие у него были ступни. Должно быть, не меньше двенадцатого размера. Некоторое время Эдвард смотрел на тело, прижимая к груди манускрипт, совсем как Тиррел. Он не чувствовал жалости, ему даже в голову не пришло позвать на помощь - или убедиться, что помощь больше не нужна. Наоборот, он чувствовал глубочайшее тайное облегчение - словно вдруг освободился от тягостной зависимости.
- Ты так и не увидел эту женщину? - помню, спросил его я.
- Она была в другом конце дома.
Перед тем как уйти, он задвинул ящик. Он не хотел, чтобы весь мир знал об этом манускрипте - пусть считается, что Тиррел умер после его ухода. Так и вышло; он сумел убедить полицию в том, что в момент смерти его там уже не было; вскрытие подтвердило, что Тиррел умер естественной смертью. Эдвард ушел, унося с собой манускрипт и воспоминание об ужасе в меркнущих глазах Тиррела. Позже он сказал, что долго еще продолжал чувствовать на себе этот взгляд.
Я думаю, что, кроме непосредственно заинтересованных лиц, я единственный, кто видел этот манускрипт. Мне показал его Эдвард. Он был написан от руки выцветшими побуревшими чернилами на старинной бумаге верже мелким и плотным почерком - там, где нет нажима, очень тонким. Написан по-английски, отдельные буквы четкие и узнаваемые, но смысла я не смог уловить; мне не удалось его прочесть. Правда, я держал его в руках лишь несколько минут - может быть, я просто не успел сосредоточиться, но не думаю, потому что первая реакция Эдварда была такой же. Тонкая заостренная вязь этих тысяч и тысяч буковок оставила во мне неприятное чувство бессмыслицы, пагубной бессмыслицы, которая, однако, ввергала в соблазн, ибо в то же время казалось, что она должна что-то обозначать. Так же было и с Эдвардом; но, может быть, чтобы манускрипт с тобой заговорил, нужно стремиться стать великим писателем.
Глава IV
Как я уже сказал, все это происходило задолго до того, как я узнал о манускрипте; в те годы нашей лондонской молодости время летело быстро. Жизнь обычно идет себе и идет, и трудно увидеть в ней какую-либо четкую перспективу. Однако я готов попытаться, пусть начерно, выстроить последовательность событий, которые незаметно вдруг стали главной темой моей жизни. Мы с Шанталь поженились; мы работали, встречались с друзьями и родственниками, ходили по театрам и кино, ездили в отпуск, обзаводились кой-каким имуществом - в общем, вели обычную для большого города жизнь, которая кажется столь напряженной и полной и о которой потом нечего вспомнить.
Эдвард процветал. Он не просто много писал, но пропахал глубокую борозду в поле, готовом для разработки, - по крайней мере теми, кто следит за литературной модой. Он стал ведущим писателем среди так называемых постмодернистов, представителей "фантастического реализма". Реальность и вымысел у них имеют одинаковый статус, результатом чего для писателей явилось убеждение, что можно писать что угодно, не давая себе труд в чем-то убедить или что-то доказать, и что отличать правду от вымысла не нужно - просто сочинять, что нравится. На мой взгляд, это происходит от недостатка воображения или веры в то, что сила воображения помогает понять жизнь. А приводит к неуважению читателя. Предполагается, что интеллектуальным обоснованием этого течения был абсолютный скептицизм, который подразумевал, что поскольку реальность заслуживает доверия не более, чем вымысел, то в итоге ничего нельзя доказать - что бы это ни значило. Естественно, писателям и критикам, которые все это исповедовали, необходимо было укрыться за новым абсолютом, еще более великим, чем нис-провергнутое. Таковым абсолютом стало их убеждение в собственной правоте, - на это их скептицизм почему-то не распространялся.
Может сложиться впечатление, что я противопоставлял себя этому направлению; отнюдь нет. Я лишь гораздо позже пришел к пониманию того, что это обман, а искусству нужна правда. Роль искусства в том и состоит, чтобы помочь расслышать то, чего обычно не слышно в шумной житейской суете. Я понимаю, что старомоден - я, который так ревностно стремился быть современным, - но я пришел к этому через собственный опыт. Ложными оказались новые истины, а не старые, и я убежден, что если где-то реальность смешивается с нереальностью или делаются попытки их уравнять, то это дело рук дьявола.
Но в то время я был поклонником всего нового. Мне льстила дружба Эдварда, по воскресеньям я любил поговорить про всяче-ские "измы" за бокалом в Клэпхэм Гарденс, повторяя то, что вычитал в журналах. Я смотрел те же пьесы и фильмы, что и все, я думал так же, как все, и истово ходил по литературным вечеринкам. Я был типичным современным обывателем. К чести Шанталь, для нее такая жизнь была в большей степени игрой, чем для меня; она не особенно брала это в голову. Она просто веселилась, а я придавал всему этому огромное значение. Наверное, я уже тогда был немножко занудой.
Будучи ведущим представителем новой словесности, Эдвард, однако, не был теоретиком. Я не слышал, чтобы он поддерживал какую-то теорию. Он применял их на практике, а в ходе специальных дискуссий улыбался и качал головой, словно все это вне его понимания, отчего возникало впечатление, что на самом деле он выше этого. Он сохранил за собой квартиру в мрачном кеннингтонском доме, даже когда разбогател настолько, что мог купить уже всю улицу, а жил по большей части за границей. Какое-то время он владел также домом в Челси, но этой квартирой все равно пользовался как убежищем для работы, поскольку в Челси ему не давали покоя телефонные звонки и визитеры. Но это было потом, а в те годы он все еще жил там, а я все еще ему позванивал, как и до женитьбы. Иногда со мной приходила Шанталь, но чаще мы были одни; порой там оказывалась какая-нибудь его подружка. Он весьма безжалостно прогонял их, если мешали, но вообще их у него стало больше, чем раньше. Надо сказать, после тех нескольких дней в Вильфранше его жизнь стала интенсивнее во всех областях: он больше работал, больше встречался с людьми, писал больше статей, чаще появлялся на радио и телевидении и таким образом стал фигурой общенационального масштаба, во всяком случае для тех, чья профессия имеет отношение к искусству. Мне казалось, что чем больше человек пишет, тем, соответственно, меньше времени у него на все остальное, и однажды сказал ему об этом.
- Нет, - сказал он, покачав головой. - Когда хорошо пишется, то и все остальное идет хорошо.
Но еще сильнее меня поражало, что череда его побед над женщинами не прекратилась и после переезда к нему Эдокси. Может быть, их число даже увеличилось. Впрочем, Эдокси удивляла не только этим.
Я познакомился с ней в тот вечер, когда впервые услышал скрип пера. У меня и в мыслях не было, что она с ним живет, - он никогда не упоминал о ней. Я позвонил и попросил надписать экземпляр его второго романа, который собирался подарить одному другу. Этот роман был награжден одной из малых литературных премий, и, кажется, именно он побудил к сопоставлению Эдварда и Тиррела. Причем не столько на основе литературного сходства, сколько в смысле их дара оказываться законодателями моды - уже тогда Эдвард по всем признакам становился лидером. При явных и выпуклых различиях в средствах результат был поразительно одинаков. Тиррел сделал упор на стиль и свел на нет содержательные моменты, вследствие чего в конце концов в его книгах не осталось практически ничего, кроме бесконечных стилистических изысков. Эдвард на стиль почти не обращал внимания; он наступал под прикрытием плотного артиллерийского огня идей, сцен, персонажей и карикатур. Он смешивал реальное и ирреальное, факты и вымысел в точно нацеленные залпы такой интенсивности и мощи, что у читателя просто не было времени опомниться и отличить одно от другого. Он писал настолько энергично и остроумно, что покупались даже критики: захваченные тем, о чем идет речь, они уже не могли спокойно анализировать его книги, совсем как с Тиррелом. И стоило кому-то обронить, что он занял то место в современной словесности, которое после смерти Тиррела оставалось вакантным, как все немедленно подхватили и стали соревноваться, стараясь превзойти друг друга экстравагантностью формулировок.