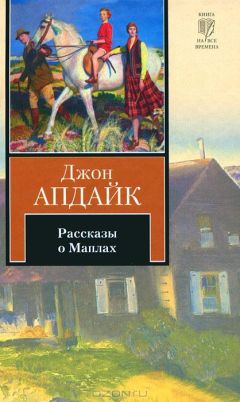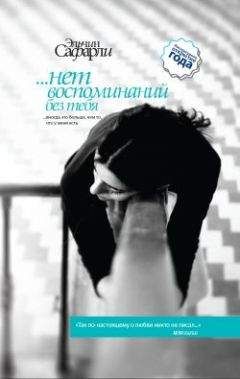Джон Апдайк - Россказни Роджера
— А он не мог бы освободиться от физкультуры?
— Он сам не хочет освобождения. Говорит, лучше уж болеть. Наверное, — продолжала она насмешливым напевным тоном, — думает, что у него хорошо получается играть в футбол.
— А ты думаешь — плохо? — Теперь, когда наш сын повзрослел, ее недоверие к мужчинам распространилось и на него.
Эстер посмотрела на меня, моя дорогая несостоявшаяся феминистка, зрачки ее застекленели: словно большеглазая белая рыба подплыла к зеленоватой стенке аквариума и выпустила яростную струю неизбывной скуки оттого, что день за днем одно и то же — кружение и кружение в прозрачном ящике.
— Нет, мой дорогой, я этого не сказала. — Чистый звучный голос, чуть тронутый хрипотцой от возраста и сигарет, зазвенел, заиграл. — Надеюсь, он неплохо играет в футбол. Только вот не знаю, в кого он пошел. Я лично всегда была ужасной мазилой, да и ты, говорят, не очень-то блистал.
— Когда я учился, в теперешний футбол не играли. У нас был другой футбол, американский, он похож на регби у англичан, в него крутые ребята играли. Отец презирал меня за то, что я не играю. Боялся, что меня задавят. А в тот, европейский, я бы с удовольствием сыграл. Кто знает?
— Разве кто-нибудь что-нибудь знает?
— Ты, кажется, не в настроении?
— Осень на нервы действует. Я сегодня выходила, подумала, что надо бы купить соснового лапника, чтобы укрыть на зиму дубовые листья на клумбах. Но разве в этом городе найдешь лапник? Каждый год одно и то же.
— Подожди до Рождества, срубим одно деревце.
— Ты каждый год это говоришь. А что я говорю?
Я задумался, окинул взглядом книжные полки и вспомнил, что хотел посмотреть одно место у Барта.
— А ты говоришь, что будет слишком поздно. Листья по всему двору разнесет ветром.
— Правильно. Ты молодец, Родж.
— И как же все-таки мы обычно решаем проблему лапника? Напрочь из головы вылетело.
— Едем за город, в лес и спиливаем там сколько нужно. Беда в том, что нижних ветвей почти не осталось. Придется взять ту пилу с длинной рукояткой. Чего она в гараже ржавеет.
— Я думал, Ричи сломал ее, когда строил себе домик.
В действительности же я ни в чем не винил Ричи — не будь у нас с Эстер этого мальчишки, нам не о чем было бы говорить и мы отдалились бы друг от друга еще больше. Я мучительно соображал, что бы сказать еще, кинуть ей подачку, а она смотрела на меня своими тоскливыми, как у собаки, глазами.
— А до этой Карлисс Хендерсон у меня была еще одна встреча. С каким-то сумасшедшим малым, к тому же неприятным, хотя с виду вроде бы нормальный человек. Один из этих компьютерщиков из университетских лабораторий. Одному богу известно, что привело его на наш факультет. Впрочем, я знаю. Кстати, он водит дружбу с ужасной дочерью моей ужасной сестрицы Эдны, с Верной. Ну, той, что завела себе черного ребенка и живет где-то в трущобах — помнишь?..
— Ты говори, говори, а я мигом на кухню. Посмотрю, не убежала ли там брокколи.
Эстер кинулась по коридору, свернула направо, под дверную арку столовой, исчезла в кухне. Люблю смотреть на нее сзади: вскинутая головка, округлая плотная попа, мелькающие лодыжки. Ничто не изменилось с тех пор, как я провожал ее жадными глазами, когда она после репетиций хора бежала по коридору между рядами, роняя церковный прах с подошв. Тогда, в эпоху мини-юбок и «власти цветов», она не укладывала волосы, а носила их распущенными, и пышная светло-рыжая грива, казалось, перевешивая ее тело, волнами сбегала по спине. Прошли годы, появились белые прядки, особенно на висках, она стала «делать голову»: подрезать, подкалывать, подкручивать волосы, придумывая бесконечно разнообразные прически — от легкомысленных челок через нейтральные пучки до чопорных венцов, какие подобают фрау профессорше. На ночь она распускает волосы, и они смотрятся даже более соблазнительно, чем ее зовущая нагота. Она следит за фигурой и «держит вес» очень простым способом: каждое утро встает на весы и, если стрелка переходит стофунтовую отметку, садится на салат, морковь и воду, пока стрелка не возвращается в идеальное положение. Вдобавок она неплохо «сечет» в математике. Не раз помогала нашему налоговому адвокату разобраться с цифрами.
Я не пошел вслед за Эстер, а воспользовался моментом, чтобы посмотреть Барта, то место, где он перебирает множество путей и доказывает, то ни один не ведет к Богу. Кажется, это в «Слове от Бога и слове человека». Я достал мой старый экземпляр, книгу в мягкой обложке, зачитанную до дыр, испещренную карандашными пометками на полях, которые делал молодой человек, полагавший, что обрел Путь, услышал Глас, нашел способ укрепить в себе и передать другим христианскую веру. Перелистывая страницы, я снова чувствовал железную логику пассажей, безупречную великолепную цельность и насыщенность прозы, специфически христианской, которая, увы, слишком часто страдает интеллектуальной вялостью и полна всевозможных уловок. «Человек представляет собой загадку и ничего более, и его Вселенная, как бы ярко она ни воспринималась и ни ощущалась, — это вопросы... Решение загадки и ответ на вопрос — абсолютно новое явление... Пути к этому явлению не существует».
Вот, кажется, нашел, здесь, в «Задаче священнослужения», хотя нет: отрывок знаком, но не тот, который три десятилетия назад навсегда отложился в памяти молодого человека. Просматривая «Задачу» дальше, я наткнулся на предложение, отмеченное звездочкой на полях, — оно как будто оправдывало в какой-то степени систему аргументов Дейла Колера: «В отношении Царства Божия любая педагогика может оказаться хорошей или плохой; стул может быть достаточно высок, а самая длинная лестница коротка, чтобы силой войти в Царство Небесное». Силой — вот в чем заключалось его богохульство. Он трактует Бога как предмет, так, будто Он не имеет голоса в им самим сотворенном мире. Я лихорадочно искал нужную цитату, чувствуя, как ко мне протягивается скука, исходящая от Эстер, засасывает меня, зовет в кухню, скучать вместе с женой. Я уже потерял надежду найти нужный отрывок, как вдруг моя разваливающаяся книжица сама собой раскрылась на странице, где трижды подчеркнутые строки говорили о напряженных духовных исканиях тогдашнего молодого существа, раскрылась — только подумать! — на «Проблемах этики сегодня».
«Пути от нас к Богу нет, нет ни via negativa, ни даже via dialectica или paradoxa. Бог, которого можно найти в конце какого-либо человеческого пути, не есть истинный Бог».
Вот оно. Я закрыл книгу и поставил на полку. «Бог, которого можно найти в конце какого-либо человеческого пути, не есть истинный Бог». Мне стало стыдно: я всегда чувствую себя чище, полным новых сил после чтения богословского труда, даже второразрядного, исследующего трещины в непостижимом. Чтобы вы не приняли меня за религиозного ханжу, я испытываю такое же удовлетворение и вдохновение от порнографии, от подробного, вызывающего столько ахов и охов изображения немыслимо длинных и глубоких, твердых и податливых частей человеческого тела, когда они, как поршень в цилиндре, совершают рабочий цикл: трение, впрыскивание, вспышка, истечение. Даже «Opus Pistorum» недавно умершего Генри Миллера — какая несправедливость, что это последний его труд! — не покоробил меня. Напротив, эта работа, как и другие того же рода, обладает определенными очистительными качествами, поскольку выставляет на свет наше темное сырое подполье, кишащее многорукими бесами. Но вот камень отвалили, и что же проистекает из клокочущей клоаки нашего существа и наших низких неосознаваемых желаний? Дети и храмы.
Ричи сидел, уставившись затуманенными глазами в тетрадку и одновременно стараясь не пропустить, что происходит на экране: шел повторный показ «Острова Джилличена». Я потрепал его по голове, взъерошил волосы, тоже темно-каштановые, как у меня до того, как их сменила седина, не тронув только брови: густые, темные, торчащие.
— Как дела в школе?
— Нормально.
— Как твоя простуда?
— Нормально.
— Мать говорит, что тебе стало хуже.
— Па, я делаю уроки, не видишь? Сколько будет логарифм двадцати семи по основанию шесть?
— Понятия не имею. Мы логарифмы в школе не проходили.
Вообще-то я вместе с ним пытался разобраться в логарифмах и, внимательно читая учебник, по-моему, преуспел в этом, но мне не понравилось открытие, что основание десять не является священным числом. Это проделало ненужную дыру в моей личной вселенной. Думая о математике, я представляю себе, как, повинуясь непостижимым вечным законам, движутся в пространстве по восхитительным траекториям кривые, как они изгибаются и несут на своих дугах истину, подобно дельфинам, несущим херувимов, несут все дальше и дальше, то погружаясь в глубины космоса, то снова выныривая. Гностическая иерархия ангелов и степеней восприимчивости человека к плероме, а также «мера тела Господня», трудолюбиво исчисленная началами математики в мистицизме меркабы, ставили целью представить те всеобъемлющие невещественные формулы, которые служат связующим звеном между нами и абсолютами материи и энергии.