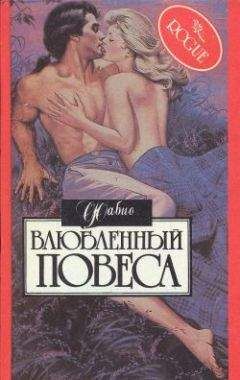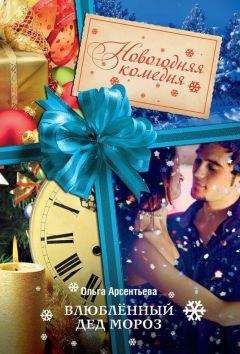Иван Лазутин - Суд идет
— Ничего, ничего, Леонид. Смеется тот, кто смеется последний. Я еще скажу свое слово, когда накипит. Мне пока еще рано вставать на дыбы. А тебе, за твою поддержку — спасибо. Честно скажу, не ожидал. — Шадрин пожал Кобзеву руку.
Скрипя протезом, по коридору мимо проходил Артюхин. Лицо его было и виноватым и заискивающим. Всем своим видом он походил на нашкодившую собачонку, которая, чтоб ее не наказали больно, ползет к ногам хозяина, машет хвостом и неуверенно смотрит ему в глаза.
— Вот чудак! Встал бы да признал критику. Пообещал бы исправиться — и все дело в шляпе. Подумаешь — поругали. Нас тоже по первости ругали, да еще как ругали! Почище, чем тебя. — Артюхин добродушно улыбался.
Шадрин хотел ответить ему улыбкой, но не мог. Перед ним стоял человек, которого он жалел, как младшего слабого брата, как инвалида. А он… «Нет, с таким я не пошел бы в разведку. Может предать. По глазам вижу — сможет». И Шадрин не пожал руки, которую протянул ему Артюхин. Он сделал вид, что не заметил ее. Тот долго стоял с протянутой рукой, потом как-то неестественно закашлялся, неловко повернулся и направился к выходу.
Бардюков на ходу застегнул свою форменную шинель, на секунду замедлил шаг, молча кивнул головой Шадрину и Кобзеву и скрылся в дверях. Другие следователи, которых Шадрин знал меньше, чем Бардюкова и Кобзева, простились с ним тепло, по-дружески, поддерживая его сочувственными взглядами, в которых Дмитрий читал: «Терпи, казак, атаманом будешь».
— А ты что не одеваешься? — спохватился Кобзев, который не находил себе места: так он волновался. Казалось, что он готов был отсидеть еще одно собрание, чтобы выступить с настоящей резкой критикой. — Я спрашиваю, что ты не одеваешься?
Дмитрий рассеянно ответил:
— Мне нужно кое-что… кое-что приготовить к завтрашнему дню. Прямо с утра еду в тюрьму на очную ставку.
— Что ж, давай, только лучше бы утром пришел пораньше. На свежую голову лучше думается. А потом после такой головомойки…
Но Шадрин все-таки остался. Простившись с Кобзевым, он прошел в свой кабинет, раскрыл папку с делом Анурова и его компании. Буквы в глазах прыгали. Слова перед ним представали ничего не выражающими иероглифами и цепочками синих узоров. Между строками он видел лицо Наседкина, самоуверенную улыбку Богданова и заячий трепет в маленьком, неприметном лице Артюхина. «До чего же затюкали! А ведь когда-то, наверное, неплохим солдатом был. Воевал, потерял ногу в боях… А вот тут… Только из-за того, что живет в вечном страхе, что всякий раз ткнут носом в неграмотный оборот или в лишнюю запятую, так опустился человек».
Шадрин сидел за своим маленьким столом и силился осмыслить все, что произошло за последний вечер. Он как-то сразу растерялся. Как же так?! В школе был первым учеником, и сейчас еще стены избы, в которой протекало его детство, увешаны застекленными рамками с пожелтевшими похвальными грамотами. Среднюю школу закончил с отличным аттестатом. После окончания курсов разведчиков попал на Доску почета. Награжден семью правительственными наградами за боевые заслуги в войну. С отличием закончил Московский университет. Работе в прокуратуре отдает всего себя. И вдруг: шалопай, лентяй, выскочка… Что это? Неужели все, что было сзади, все тридцать лет жизни, было подъемом в гору, а то, что начинается сейчас, после окончания университета, — падение с высокой кручи? Ведь Богданов — прокурор, член бюро райкома, влиятельный человек в районе, больше двадцати лет работает в прокуратуре. За что ему издеваться над ним? Ведь Шадрин ему не соперник, не враг его, а всего-навсего лишь подчиненный. А Наседкин? Этот хоть дурак и трус, но ведь тоже человек и тоже имеет хоть маленькие, но заслуги. За что он обливает его грязью?
Шадрин мысленно обращался к себе и не находил ответа. Положив голову на скрещенные руки, он сидел неподвижно. Перед глазами его назойливо вставали картины выступления прокурора и его помощника. Потом, словно каким-то стремительным броском, воображение перенесло его в другую обстановку. Вход в метро. Женщина в черной котиковой шубке передает ему пакет. Голубеют сотенные хрустящие бумажки. А вот пошли детали последнего разговора с Богдановым. Шадрин силился вплоть до мелочей вспомнить этот разговор, но он оседал в памяти расплывчато, смутно — все тонуло в идиотическом смехе сумасшедшего Баранова…
Дверь в комнату кто-то открыл. Дмитрий оторвал от стола голову. В дверях стоял Богданов. Он зашел в кабинет и закрыл за собой дверь. Молча сел на стул, на котором обычно сидят допрашиваемые. Шадрин поспешно встал, уступая ему свое место. Но предупредительный жест прокурора говорил: «Сидите, не беспокойтесь».
Шадрин смотрел в глаза прокурору, а продолжал видеть его свояченицу в котиковой шубке. Он припомнил даже цвет конверта: голубой, без надписи…
— Теперь-то вы, наконец, уяснили себе, за что вас ругали? — сочувственно и устало спросил прокурор.
— Уяснил, — задумчиво ответил Шадрин, не в силах отогнать видение белокурой женщины в котиковой шубке.
— Как вы теперь думаете послезавтра писать обвинительное заключение по делу Фридмана и его сообщников?
— По делу Анурова и его сообщников, вы хотели спросить?
— Это частности.
— Буду писать так, как диктует мой долг.
— И как рекомендует прокурор?
— Нет! Как обязывает Закон.
— Вы по-прежнему настаиваете на Указе от четвертого июня?
— Да.
— Вы об этом не пожалеете?
— Нет.
Прокурор встал со скрипучего стула, застегнул верхнюю пуговицу кителя и уже почти в дверях холодным, начальственным тоном произнес:
— Завтра утром едем вместе в тюрьму. Посмотрю вас в работе. — Не закрыв дверь, Богданов вышел и оставил за собой эхо твердых гулких шагов по длинному, тускло освещенному коридору.
А Дмитрий продолжал сидеть над исписанными листами протоколов. Он так и не подготовился к завтрашнему дню.
XVIII
Богданов в этот вечер вернулся домой неразговорчивый и злой. Всю дорогу он мысленно готовил разговор с Шадриным. В голове всплывало множество вариантов избавления от строптивого и непокорного следователя. Как облегчение, он твердил про себя: «Смять! Выгнать с позором!..» А какой-то далекий голос шептал: «Осторожней. Чтобы смять Шадрина, нужны веские доводы, он из молодых, да ранний. Умен и напорист. Умеет держать язык за зубами. Выступать на партийном собрании не стал, чего-то задумал. Это не дурачок Артюхин».
Дома Богданова встретили жена и Раиса Павловна. Не успел он раздеться, как они подошли к нему со слезами.
— Дайте хоть поесть. Без вас голова идет кругом! — оборвал сестер Богданов и прошел на кухню, где домработница подавала на стол ужин.
Ел Богданов молча, ни на кого не глядя. Видно было, что все в этом доме ему смертельно надоело: и глупая жена, и такая же ограниченная и тупая сестра ее, и муж сестры, который за последний месяц принес ему столько неприятностей.
Богданов кончил ужинать и потихоньку прошел в кабинет.
Перед сном, как правило, он имел обыкновение полчаса-час почитать что-нибудь из беллетристики. Это успокаивало нервы и отвлекало от дневных дум и волнений. Но не успел Богданов раскрыть книгу, как в кабинет бесшумно вошла Раиса Павловна. Она приблизилась к столу и тихо села в кресло. Продолжая тереть платком воспаленные глаза, Раиса Павловна проговорила:
— Николай Гордеевич… Ведь их со мной остается двое, а что я могу сделать?.. — Сморкаясь в платок, она замолкла.
Богданов сидел за столом, низко опустив голову, будто с потолка на него медленно опускали двухпудовую гирю. Он ждал, когда заговорит свояченица, хотя заранее знал, о чем она будет просить.
— Что я могу сделать?
— Я вчера была у Бори. Он выглядит, как старик… Совсем седой… — Раиса Павловна снова заплакала. С трудом, сквозь слезы, она рассказала Богданову то, что велел передать сам Ануров.
Слушая свояченицу, Богданов отлично понимал, что не с одной просьбой пришла к нему Раиса Павловна. В словах ее заключалась не только мольба о помощи, но и был намек на то, что Ануров держит в руках Богданова. Была в ее словах и неприкрытая угроза: если он, Богданов, забудет все то добро, которое делал для него Ануров, то он может об этом пожалеть. Падая в пропасть, Ануров потянет за собой и тех, кто будет толкать его в эту пропасть. Так она и сказала.
Ничего определенного не ответил Богданов Раисе Павловне. Он только тихо сказал:
— Хорошо, я еще раз посмотрю дело. — И дал знак, что он очень устал, что ему хочется остаться одному.
Раиса Павловна вышла.
Богданов долго сидел молча перед раскрытой на столе книгой. Взгляд его упал на ковер, застилавший почти весь пол. «Это тоже приобретено с помощью Анурова. Люберецкий… За ними стоят по неделе в очереди. А нам его привезли на дом… Противно!.. Как все противно!..»