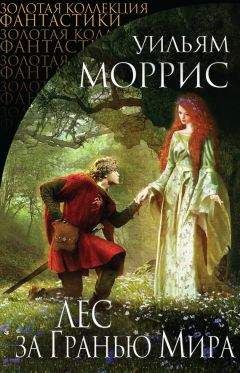Коллектив авторов - Сцены частной и общественной жизни животных
– Кто ты такой?
– Увы, Ваша Светлость, – отвечал я (опасаясь второго удара), – я сам не знаю. Я думал, что я Дрозд, но меня убедили, что это неправда.
Необычность такого ответа вкупе с моим простодушным видом вызвали его интерес. Он подсел поближе и приказал мне рассказать мою историю, что я и исполнил со всей печалью и всем смирением, какие подобали моему положению и чудовищной погоде.
– Будь ты, как я, Диким Голубем, – сказал он, выслушав мой рассказ, – ты бы и внимания не обратил на все эти глупости, которые тебя печалят. Мы странствуем, в этом наша жизнь, и не чуждаемся любви, но я не знаю, кто мой отец; рассекать воздух, преодолевать пространство, видеть под собой горы и долы, вдыхать самую лазурь небес, а не испарения земли, мчаться стрелой к намеченной цели, которая никогда от нас не ускользает, – вот наши радости, вот наша жизнь. За один день я проделываю путь длиннее, чем человек за неделю.
– Право слово, сударь, – сказал я, немного осмелев, – вы настоящий бродяга.
– Это меня тоже ничуть не волнует, – продолжал он, – у меня нет родины; мне важны три вещи: странствия, моя жена и мои дети. Где моя жена, там и моя родина.
– А что это висит у вас на шее? Похоже на старую измятую папильотку.
– Это важные бумаги, – отвечал он, напыжившись, – я теперь направляюсь в Брюссель и несу знаменитому банкиру *** известие, от которого курс государственной ренты упадет на один франк семьдесят восемь сантимов.
– Боже милостивый! – вскричал я, – какая у вас прекрасная жизнь, а Брюссель, я уверен, очень любопытный город. Не можете ли вы взять меня с собой? Раз я не Дрозд, возможно, я Дикий Голубь.
– Будь ты Диким Голубем, – возразил он, – ты бы давеча ответил мне ударом на удар.
– Полноте, сударь, за этим дело не станет, не будем ссориться из-за таких пустяков. Уже светает, буря почти утихла. Умоляю вас, позвольте мне последовать за вами! Я гибну, у меня нет никого в целом свете; если вы откажете, мне останется только утопиться в этом водосточном желобе.
– Ну что ж, в путь! Следуй за мной, если сможешь.
Я бросил последний взгляд на сад, где спала матушка; слеза покатилась из моих глаз, ветер и дождь унесли ее с собой; я расправил крылья и двинулся в путь.
IIIКрылья мои, как я уже сказал, еще не вполне окрепли; вожатый мой несся как ветер, а я едва поспевал за ним; некоторое время я еще держался, но вскоре голова у меня закружилась так сильно, что я едва не лишился чувств.
– Долго нам еще лететь? – прошептал я еле слышно.
– Нет, – отвечал он, – мы уже над Ле-Бурже, осталось всего шестьдесят лье[713].
Я пытался собраться с силами, ибо не желал походить на мокрую Курицу, и пролетел еще четверть часа, но затем окончательно изнемог.
– Сударь, – взмолился я, – нельзя ли остановиться хоть на минутку? Мне ужасно хочется пить, и если бы мы присели на ветку…
– Убирайся к черту! ты всего лишь Дрозд! – гневно воскликнул Дикий Голубь и, не соизволив даже обернуться, продолжил свой неистовый полет. Что же до меня, я, ничего не слыша и ничего не видя, рухнул на землю прямо посреди хлебного поля.
Не знаю, сколько времени я пролежал без чувств; очнувшись, я первым делом вспомнил прощальные слова Дикого Голубя: «Ты всего лишь Дрозд!» «О любезные мои родители! – подумал я, – стало быть, вы ошиблись. Я ворочусь к вам; вы признаете меня своим истинным и законным сыном и дадите местечко в мягкой куче листьев, устилающих матушкину миску».
Я попытался встать, но дорожная усталость и боль от падения парализовали мои члены. Не успел я встать на ноги, как вновь изнемог и упал на бок.
Меня уже посещали страшные мысли о смерти, когда я увидел среди васильков и маков двух прелестных особ, направлявшихся ко мне на цыпочках. Одна была очень пестрая и чрезвычайно кокетливая Сорока, а другая – розовая Горлица. Горлица целомудренно остановилась в нескольких шагах и смотрела на меня с превеликим сочувствием, Сорока же была так мила, что вприпрыжку подошла совсем близко.
– Ах боже мой! что с вами, бедное дитя? – спросила меня шалунья серебристым голоском.
– Увы, госпожа маркиза, – отвечал я (потому что она наверняка была маркизой, никак не меньше), – я бедный странник, кучер бросил меня по дороге и я умираю с голоду.
– Пресвятая Дева! что я слышу! – вскричала она и тотчас принялась порхать над соседними кустами; она летала туда-сюда и всякий раз возвращалась с ягодами и фруктами, которых вскоре скопилась подле меня целая горка; при этом она не прекращала расспросов:
– Но кто же вы такой? и откуда вы родом? Какая потрясающая история с вами приключилась! А куда вы направлялись? Как же можно путешествовать одному в таком юном возрасте – ведь вы совсем недавно впервые сменили оперение! А что делают ваши родители? Где они живут? Как же они оставили вас в таком состоянии? Просто перья встают дыбом от ужаса!
Пока она щебетала, я слегка приподнялся и принялся есть с большим аппетитом. Горлица по-прежнему не шевелилась и смотрела на меня с участием. Однако она заметила, что я страдальчески верчу головой, и поняла, что мне хочется пить. Капля ночного дождя сохранилась в чашечке звездчатки; Горлица робко набрала воду в клюв и напоила меня этой свежей влагой. Разумеется, не будь я болен, особа столь сдержанная никогда не отважилась бы на подобный шаг.
Я еще не знал, что такое любовь, но сердце мое забилось с удвоенной силой. Волнуемый двумя различными чувствами, я находился во власти чар неизъяснимых. Кормилица моя была так весела, поилица – так задумчива и нежна, что я был готов провести за подобным завтраком целую вечность. К несчастью, все имеет предел, даже аппетит выздоравливающего. Я насытился, силы возвратились ко мне, я удовлетворил любопытство крошки Сороки и поведал ей о своих несчастьях с той же искренностью, с какою накануне исповедовался Голубю. Сорока слушала меня с бόльшим вниманием, чем свойственно ее породе, а Горлица – с глубокой чувствительностью, придававшей ей еще большую прелесть. Но лишь только я дошел до главного источника моих несчастий, а именно до невозможности понять, кто я такой, Сорока не выдержала:
– Вы шутите? Вы – Дрозд? Вы – Голубь? Какой вздор! вы Сорока, дитя мое, самая чистокровная Сорока, и притом весьма очаровательная, – прибавила она, легонько стукнув меня крылом, словно веером.
– Но, госпожа маркиза, – возразил я, – мне кажется, что для Сороки у меня, с вашего позволения, цвет не совсем…
– Русская Сорока, мой милый, вы русская Сорока! Разве вы не знаете, что русские Сороки все белые? Бедное дитя, как вы еще невинны!
– Но, сударыня, – продолжал я, – как могу я быть русской Сорокой, если я родился в квартале Маре, в старой разбитой миске?
– Ах вы святая простота! Вы, мой милый, плод русской кампании[714]; думаете, вы один такой? Доверьтесь мне и не спорьте; я заберу вас с собой и покажу вам прекраснейшие в мире вещи.
Обвенчал нас преподобный отец Баклан
– Куда же это, сударыня, скажите, пожалуйста?
– В мой зеленый дворец, дитя мое. Увидите, какая там жизнь. Побудьте Сорокой не больше четверти часа, и вы ни о чем другом и слышать не захотите. Нас там целая сотня – не те деревенские толстухи, что попрошайничают на больших дорогах, а благородные Сороки из хорошего общества, утонченные, проворные, ростом с кулачок. У нас у каждой на крыльях не меньше семи черных пятнышек и пяти белых; это всенепременно, а у кого их нет, тех мы презираем. Вам, правда, недостает черных пятен, но вы ведь русская Сорока, этого достаточно, чтобы быть принятым в свете. Жизнь наша состоит из двух вещей: болтовни и нарядов. С утра до полудня мы наряжаемся, а с полудня до вечера – болтаем. Каждая из нас живет на верхушке очень высокого и очень старого дерева. Посреди леса растет огромный дуб – к несчастью, ныне необитаемый. Там жил покойный сорочий король Пий Десятый, и мы, все сорок сороков, слетаемся на поклон к этому дереву, испуская жалобные стоны[715]; впрочем, это единственное, что омрачает нашу жизнь, а в основном мы проводим время без забот. Жены в нашем обществе не ханжи, а мужья не ревнивы, однако радости наши чисты и пристойны, ибо сердца у нас столь же благородны, сколь волен и весел наш язык. Гордыня наша не знает предела, и если Свистуны или какие-нибудь другие голодранцы посмеют затесаться среди нас, мы заклюем их без всякой жалости. Впрочем, мы добрейшие создания и всегда готовы опекать, кормить, защищать Воробьишек, Синиц, Щеглов, которые проживают в нашем лесу. Нигде так много не трещат, как у нас, но нигде меньше не злословят. Есть, правда, у нас старые Сороки-богомолки, которые с утра до вечера читают молитвы, но самая бесшабашная из наших юных ветрениц может пройти мимо самой суровой из наших матрон, не рискуя получить удар клювом. Одним словом, жизнь наша состоит из забав, чести, болтовни, славы и тряпок.