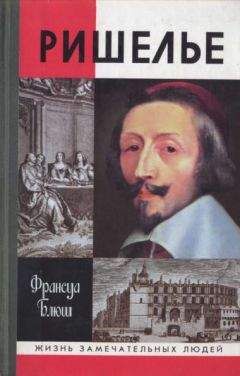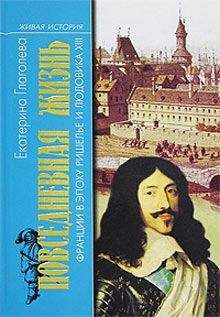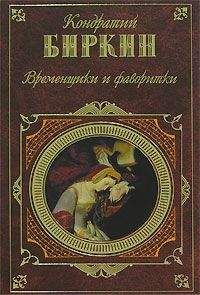Фэй Уэлдон - Подруги
Грейс красива и зачастую умеет быть малоприятна в общении — мне подчас приходит в голову, что эта вторая особенность придает ей больше привлекательности, чем первая.
С годами красота Грейс не блекнет — можно подумать, она только ярче расцветает от каждой вспышки гнева и приступа слез. Грейс выглядит ужасно, когда плачет, я наблюдала это сколько раз: глаза красные, заплывшие — жутко смотреть, рот распух от ударов, шея в отметинах — не от любовных укусов, от попыток задушить, и, безусловно, неспроста. Но гляньте на нее завтра — неузнаваема. Вновь свежий глянец и нетронутость, на крепкой белой шее — ожерелье, в ясных глазах — насмешливое равнодушие.
Грейс легкоранима, но раны ее затягиваются подозрительно быстро.
7
Марджори, Грейс и я. Как безрассудно мы любили.
Грейс любила своего Кристи, а потом он десять лет был для нее худшим из злодеев, и после этого она стала любить себя (при том, что она себе же, как говорится, злейший враг).
Марджори любила и любит свою мать, которая нередко забывала не только о том, как ее зовут, но и вообще о ее существовании.
Я, Хлоя, любила Оливера.
Каждая из нас любила в свое время Патрика Бейтса, а Марджори любит и поныне, да что толку.
Сегодня я не очень-то знаю, что понимать под словом «любовь». Мать, помнится, говорила мне однажды, что это сила, которая побуждает людей обращаться вокруг друг друга по заданной орбите и на определенном расстоянии, как обращаются планеты вокруг солнца, а луна, это холодное создание, — вокруг земли.
Покойница мать любила, бедная, своего хозяина, тайно, целых двадцать лет, и ни единого раза не изведала близости с ним, так что подобное представление о любви было для нее естественным. Во всяком случае, бесспорно, что вместе с силой, притягивающей нас к другому человеку, возникает и сила, которая нас в равной мере отталкивает, и в нашем внутреннем мире мы, подобно пылинкам в солнечном луче, пребываем, повинуясь этим силам, в безостановочном танце, мы лавируем и кружим подле предмета нашей любви, всегда слишком близко, всегда чересчур далеко, томясь по единению и в то же время страшась его.
Я помню волшебство любви. Еще бы мне не помнить. Иногда вдруг тебя коснется что-нибудь — косой луч солнца в саду поутру, пение ли, запах или чья-то рука, — и тело вспомнит, что такое любовь, и воспарит душа, сызнова уверовав в своего Творца, и все твое существо опять трепещет от воспоминаний о том высоком восторге, который некогда так властно преображал бедный наш одержимый разум, бедное одержимое тело.
Ничего хорошего из этого для нас не вышло.
8
Марджори, Грейс и я. Как мы безрассудно любили — и как губили. Произвели, на троих, шесть человек детей и, как бы для ровного счета, отправили на тот свет человек шесть родных и близких. И хотя такие деяния не принято считать убийством, мы-то в глубине души знаем, что убили. Никто из них не лежал бы сейчас в гробу, когда бы не наше небрежение — ну а иных мы свели в могилу, желая им смерти, отравляя при жизни воздух, которым они дышали. На кого-то взвалили непомерную тяжесть материнской или супружеской любви, задавили, задушили.
Наша вина.
По вине Грейс не стало ее Кристи. Это произошло наутро после того, как он в третий раз женился, теперь уже на Калифорнии. Всю ночь Грейс не давала ему спать, сперва названивала по телефону, потом звонила в дверь, потом принялась выкрикивать через дверь непристойности, давая Калифорнии наставления, покуда ее не прогнал полицейский. Утром, в изнеможении, Кристи на своем новом «мазерати» вылетел с автострады № 1 на обочину, перевернулся и погиб — не сразу и в адских мучениях. Алименты с его смертью прекратились, и Грейс осталась ни с чем (по ее представлениям), не считая запущенного дома на северо-западе Лондона, в Сент-Джонз-Вуде. У Калифорнии, невзирая на принадлежность к «детям-цветам»[1], обнаружились толковые адвокаты и брачный контракт, не обесцененный в глазах закона сугубой мимолетностью брака, а потому в то же утро она проснулась миллионершей.
По вине Марджори не стало ее Бена, с которым (прибегая к расхожему в то время обороту) она жила во грехе. Как-то вечером Бен полез менять лампочку, потянулся взять новую у неповоротливой Марджори, упал со стула, ушиб себе шею и спустя немного пошел на травматологический пункт выяснить, почему так болит.
Через три часа из больницы позвонили, чтобы Марджори забирала его. Она пришла, ее встретил старичок в разбитых ботинках и белом халате и повел в очень холодную, облицованную кафелем комнату, где за матовыми окнами тускло светила полная луна. Он выдвинул из стены ящик, в ящике лежал Бен, мертвый. При падении, сказали ей потом, у него треснул позвонок, а когда он сидел, дожидаясь своей очереди, две половинки кости терлись друг о друга и по невероятной случайности перетерли какой-то жизненно важный нерв.
Марджори была на седьмом месяце и медлительна в движениях — потому-то, несомненно, Бен потянулся так далеко и упал. Ребенок родился недоношенный и не выжил.
Две смерти на счету у Марджори. Ее даже не позвали на похороны — Бенова родня также сочла, что во всем повинна она, проклятая совратительница. А у ребеночка похорон не было. Врач завернул его в пеленку и унес, как ветеринар уносит мертвого щенка.
Что касается меня, Хлои, по моей вине не стало мамы, которую, не считаясь с ее волей, я положила на гинекологическую операцию. Маленький, просто крошечный за ненадобностью орган оказался поражен не фиброзом, как полагала я, а все-таки раком.
Странно, стоит лишь произнести роковое слово, как болезнь, тлеющая, пока ее не распознали, мгновенно вспыхивает, бурно разгорается. Тело словно подхватывает поданную ему мысль и потом уже не может от нее отказаться. Мать не хотела ложиться в больницу, это я настояла. Меня раздражало ее бездействие, я полагала, что оно вызвано физиологическими причинами, скрытыми в глубинах ее женского естества. Если только их вырвать оттуда, думала я, отсечь раз и навсегда, мать почувствует себя лучше, займется собой, не будет больше страдать, не будет понимать и прощать — меня, моих детей, мужа, подруг и свою собственную обездоленность.
А она вместо этого умерла, как будто бесполезный крошечный орган заключал в себе всю ее жизненную силу.
9
Иниго везет свою мать Хлою на станцию Эгден. Он ведет машину без колебаний и страха, спокойно, со знанием дела, явно рассматривая ее как полезный инструмент, а отнюдь не средство дать выход неким своим затаенным и предосудительным наклонностям.
Хлоя не может понять, за какие заслуги достался ей в сыновья этот образец совершенства — широкоплечий, с дружелюбным взглядом, смуглой гладкой кожей и глянцевитой упругостью черных волос, такой похожий на отца внешне и такой непохожий складом характера. Этот сын, который держится с нею ласково, с отцом — с церемонной почтительностью, лишь самую малость тронутой иронией, сдает экзамены, не злоупотребляет наркотиками, сторонится врагов и понимает друзей — им же имя легион — и сейчас не просто отвозит ее на станцию, но сам вызвался это сделать.
Возможно, размышляет она, у эссекской плоской земли, столь гнетуще невзрачной, что можно впасть в тоску, пригодной разве что для капустных и летных полей да строительства поселков городского типа, набрался Иниго того, что есть в ней добротного и несуетного, а еще вероятней, сам сотворил себе микросреду обитания, полную гармонии и красоты, коль скоро господь бог для него такую сотворить не удосужился.
Не видно даже знакомых с детства живых изгородей — выкорчеваны во славу прогресса и капустоуборочных машин. Солнце ушло. Ушли надежды, которые сулило раннее утро. Редкие уцелевшие деревья стоят бурые, заскорузлые от прошлогодних плетей, цепляющихся за них; поля неопрятны от мусора, который накопился за зиму.
Что за прихоть судьбы, думает Хлоя, обрекла ее жить всю жизнь на этих считанных квадратных милях английской земли? Сперва, давным-давно, — в Алдене, дочкой Гвинет, подружкой Марджори и Грейс. Теперь, после короткой передышки, — в Эгдене, на десять миль дальше по железной дороге, женою Оливера.
А там, где сейчас эгденский торговый центр, стояла раньше деревенская больничка, в которой родилась Грейс, первый и единственный отпрыск Эдвина и Эстер Сонгфорд. Так по крайней мере считали они — Грейс склонна была не признавать в них родителей, а за собой — дочерних обязанностей по отношению к ним. И притом не без оснований, пусть самых шатких и сомнительных, ибо примерно через год после того, как родилась Грейс, городок Эгден и окрестные деревушки всколыхнула скандальная история, которая положила конец существованию сельской больнички: старшая медсестра, особа немолодая и со странностями, изобрела новый научный метод опознавать новорожденных не по бирке, а по отпечатку, снятому с большого пальца ноги, что привело к замешательству среди персонала и неизбежной путанице среди младенцев, которых, в количестве шести душ, три с лишним года спустя возникла необходимость перераспределить между шестью парами родителей, на основании анализа крови, внешних данных, установленных черт характера и, разумеется, родительского инстинкта. К несказанному восторгу газетчиков, как отечественных, так и зарубежных. С шестью разобрались, а как насчет других? Все детские годы, а случалось, что и после, Грейс тешила свое воображение, мысленно определяя себя в дочери то к одной, то к другой богатой и знатной супружеской паре. Уверенность, что тебя перепутали при рождении, — явление довольно обычное среди маленьких девочек, а Грейс дай только палец в образе полоумной медицинской сестры, она и всю руку откусит, и не допросишься, чтобы помогла матери мыть посуду, даже в те дни, когда у прислуги выходной.