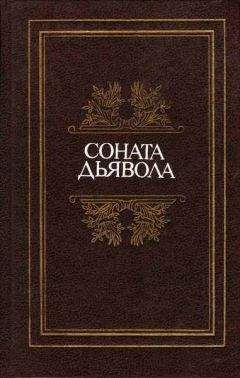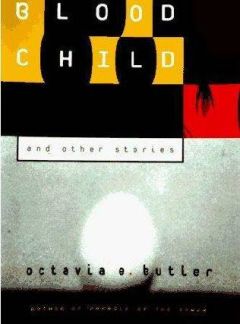Мирча Элиаде - У цыганок
Гаврилеску постоял оторопело, потом сунул руки в карман и вытащил свои носовые платки.
— Интересные дела, — прошептал он.
Медленно повернулся, взошел на три ступеньки дома номер 101, подобрал свою шляпу, еще раз подергал за ручку двери, после чего спустился и нетвердым шагом пошел прочь. Он шел волоча ноги, без мыслей, машинально утираясь платком. Трактир на углу был еще открыт, и, потоптавшись возле, он решил войти.
— Только вино, — встретил его мальчишка-половой. — В два закрываемся.
— В два? — удивился Гаврилеску. — Но сколько же сейчас времени?
— Два и есть. Третий час.
— Страшно поздно, — шепотом, больше для себя, сказал Гаврилеску.
Когда он подошел к стойке, ему показалось, что он узнает фигуру трактирщика.
— Вы случаем не господин Костикэ? — спросил он с бьющимся сердцем.
— Он самый, — подтвердил трактирщик, пристально вглядываясь в него. — Я как будто тоже вас знаю, — добавил он, помолчав.
— Наконец-то… а то прямо как… — начал было Гаврилеску, но потерял нить и смолк, конфузливо улыбаясь. — Я бывал здесь когда-то, — с трудом выговорил он, — у меня тут были знакомые. Мадам Трандафир.
— О, царствие ей небесное!
— Мадам Гаврилеску Эльза…
— Да уж, бедная мадам Эльза, она натерпелась, — подхватил трактирщик. — До сего дня неизвестно, что произошло. Полиция искала его несколько месяцев, никаких следов, ни живого, ни мертвого. Как сквозь землю провалился… Бедная мадам Эльза, она пождала-пождала и уехала к своим в Германию. Распродала имущество и уехала. Имущество — так, одно название, жили бедно. Я тоже все прикидывал тогда, не купить ли мне пианино.
— Стало быть, она уехала в Германию, — в мучительной задумчивости сказал Гаврилеску. — Давно она уехала?
— Давно, давно. Как Гаврилеску пропал, несколько месяцев спустя. Осенью будет двенадцать лет. В газетах даже писали…
— Интересные дела, — лихорадочно зашептал Гаврилеску, начиная обмахиваться шляпой. — А если я вам скажу, если я скажу, что не далее как сегодня утром, и даю вам слово чести, что я не преувеличиваю, что сегодня утром я с ней разговаривал… Больше того, мы обедали вместе. Я могу вам сказать и что мы ели на обед.
— Неужто она вернулась? — спросил трактирщик, вытаращив на него глаза.
— Нет, она не вернулась. Она вовсе и не уезжала. Это просто недоразумение. Я сейчас немного устал, но завтра утром я все расставлю по местам…
Он поклонился и вышел.
Держа в одной руке шляпу, в другой платок, он сонно брел, подолгу отдыхая на каждой скамейке. Стояла ясная безлунная ночь, и на улицы уже выплеснулась свежесть садов. Сзади его нагнала извозчичья пролетка.
— Куда, барин? — спросил извозчик.
— К цыганкам, — ответил Гаврилеску.
— Садитесь, докачу за пару двадцаток, — пригласил извозчик, придерживая лошадь.
— Очень сожалею, но я не при деньгах. У меня осталась сотня с мелочью. А сотня — это только за вход к цыганкам.
— Какое там, — со смехом возразил извозчик. — Сотней не обойдетесь.
— Я столько платил сегодня днем, — заверил Гаврилеску. — Доброй ночи, — добавил он, продолжая свой путь.
Но пролетка пустилась за ним шагом.
— Душистый табак, — заговорил извозчик, втягивая в ноздри воздух. — Из генеральского сада. Я потому и люблю здесь ездить по ночам. Есть седоки, нет седоков, я заворачиваю сюда всякую ночь. Страсть как люблю цветы!
— У вас артистическая натура, — сказал Гаврилеску с улыбкой, садясь на скамейку и прощально махая рукой.
Однако извозчик подогнал пролетку поближе, вытащил кисет и стал скручивать цигарку.
— Люблю цветы, — повторил он. — Лошадей и цветы. Я по молодому делу кучером служил на похоронных дрогах. Вот была жизнь! Шестерка лошадей, черные с позолотой попоны и цветы, цветы, пропасть цветов. Эх, где она, молодость, где оно все! И я старик, и кляча у меня одна, и таскаюсь я по ночам, как проклятый… Стало быть, к цыганкам? — переспросил он немного погодя, попыхивая цигаркой.
— Да, по личному делу, — поспешил объяснить Гаврилеску. — Я к ним заходил сегодня, и после вышла какая-то неразбериха.
— Ох, эти цыганки… — сокрушенно протянул извозчик. — Если бы не цыганки, — добавил он, понизив голос. — Если бы не они…
— Да, — поддержал Гаврилеску. — Вот и все то же говорят. Я имею в виду, в трамвае. Когда трамвай идет мимо сада, только и разговора, что о цыганках…
Он поднялся и зашагал дальше, пролетка потащилась за ним.
— Свернемте здесь, — предложил извозчик, указывая кнутом на переулок. — Маленько срежем… И мимо церкви проедем. Там тоже табак. Он, правда, не то что генеральский, но все равно вы не пожалеете…
— У вас артистическая натура, — задумчиво повторил Гаврилеску.
У церкви они остановились подышать благовонным воздухом.
— Как будто там еще что-то, кроме табака, — заметил Гаврилеску.
— Да там каких только не бывает цветов! Особенно если похороны, так тут уж нанесут! И под утро от них самый запах… Я частенько важивал сюда покойников. Вот жизнь была!..
Он с посвистом тронул и снова пустился следом за Гаврилеску.
— Осталось всего ничего, — сказал он. — Садились бы уж.
— Сожалею, но у меня нет денег…
— Дадите мелочью. Садитесь…
Гаврилеску, немного поразмыслив, с натугой взобрался в пролетку. Но стоило ей взять с места, как он уронил голову на спинку сиденья и мгновенно заснул.
— Да, золотые деньки, — начал извозчик. — Церковь была богатая, клиентура отборная… Эх, дело молодое…
Однако, обернувшись и увидев, что седок спит, он стал тихонько насвистывать, и лошадь пошла живее.
— Приехали! — громко объявил он, слезая с козел. — А ворота заперты.
Он стал трясти ворота, и Гаврилеску, вздрогнув, проснулся.
— Ворота заперты, — повторил извозчик. — Придется позвонить.
Гаврилеску надел шляпу, поправил галстук и вылез из пролетки. Затем он начал искать свой кошелек с мелочью.
— Будет, не ищите, — остановил его извозчик. — В другой раз сквитаемся… Я все одно тут подожду, — объяснил он. — В такой час если и подвернется седок, то не иначе как здесь.
Гаврилеску приподнял на прощанье шляпу, после чего направился к воротам, отыскал кнопку звонка и нажал. Мгновенно распахнулась калитка, и, проникнув во двор, Гаврилеску пошел на дрожащий сквозь кусты огонек. Его робкий стук остался без ответа, тогда он сам толкнул дверь. Старуха за столиком спала, уронив голову на руки.
— Это я, Гаврилеску, — зашептал он, осторожно тряся ее за плечо.
И, пока старуха, позевывая, просыпалась, начал:
— По вашей милости вышла полная неразбериха…
— Поздно пришли, — сказала старуха, протирая глаза. — Никого не осталось. — Но, приглядевшись к нему, узнала. — А, это опять ты, музыкант. Есть для тебя немка. Она у нас бессонная…
В который раз у Гаврилеску забилось сердце и озноб прошел по коже.
— Немка? — переспросил он.
— Сто лей, — сказала старуха.
Гаврилеску стал рыться в карманах, но у него так сильно задрожали руки, что, раскопав среди платков бумажник, он выронил его на ковер.
— Прошу прощенья, — сказал он, с трудом нагибаясь. — Я немного устал. День был кошмарный.
Старуха взяла банкноту, поднялась и указала ему с порога хибарки на большой дом.
— Смотри не перепутай, — сказала она. — Ступай прямо по коридору и отсчитай семь дверей. Как дойдешь до седьмой, постучи три раза и скажи: «Это я, меня прислала старуха».
Зевнула, прикрывшись ладошкой, и захлопнула за ним дверь.
Со стесненным дыханием Гаврилеску тихо пошел к дому, отливавшему серебром при свете звезд. Поднялся по мраморной лестнице, отворил дверь и на минуту замер в нерешительности. Перед ним тянулся слабо освещенный коридор, и Гаврилеску услышал, как снова заколотилось, на разрыв, сердце. Сам не свой вступил он в коридор, вслух считая двери, мимо которых проходил, и очнулся, только когда услышал собственный голос: «Тринадцать, четырнадцать…»
«Гаврилеску, — прошептал он, останавливаясь в замешательстве, — внимание, ты опять все перепутал. Не тринадцать, не четырнадцать, а семь. Так сказала старуха, отсчитать семь дверей…»
Он хотел было вернуться и начать счет снова, но через несколько шагов почувствовал, что ноги подкашиваются, и, трижды постучав в первую попавшуюся дверь, вошел. За ней оказался большой салон, просто, почти скудно обставленный, а у окна, выходящего в сад, тенью стояла юная девушка.
— Простите, — через силу произнес Гаврилеску. — Я обчелся.
Тень отвернулась от окна, приблизилась к нему, мягко ступая, и запах забытых духов мгновенно ожил в его памяти.
— Хильдегард! — воскликнул он, роняя из рук шляпу.
— Как ты долго, — сказала девушка. — Где я тебя только не искала…
— Я был в пивной, — забормотал Гаврилеску. — Если бы я не зашел с ней в пивную, ничего бы не было. Или если бы у меня было хоть сколько-нибудь денег… А так заплатила она, Эльза, ну, и я, как честный человек… ты понимаешь… а теперь уже поздно, да? Слишком поздно…