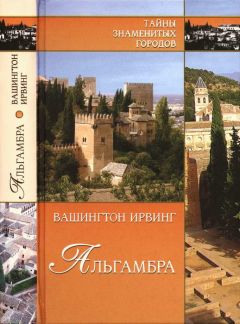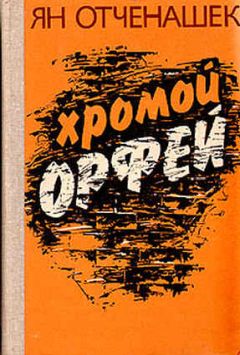Ян Отченашек - Хромой Орфей
Не понимаю, почему она отказывается ходить со мной в мое кафе. Ну, думай, что она не хочет делить тебя с твоими знакомыми. Я не верю этому, но подчиняюсь, зная, что она умеет быть упрямой, и в дождливые вечера мы сидим в маленьких ресторанчиках, согревая ладони о стакан эрзац-чая. Я обиженно молчу, делая вид, будто она виновата, что вокруг так неуютно. Заметив, что я в дурном настроении, она щелкает меня пальцем по носу, и я стараюсь, чтоб улыбка получилась как можно неискренней. Отвожу взгляд. В чем дело? Тебе нехорошо со мной? Я делаю нетерпеливый жест. Не говори глупостей, ты ведь знаешь, но только... Ох, это "только"! Что мне с ним делать? Разве не сущая бессмыслица торчать здесь и говорить чуть не шепотом, чтобы никто из этих хрычей не услыхал, о чем мы говорим, если она живет одна? Отчего она не разрешает мне прийти к ней? Боится сплетен? Но это совсем на нее не похоже. Нельзя, милый, уверяю тебя. Будь терпелив. Потом. Но - почему? Я не понимаю, и мне уже надоело слышать ее вечные "потом". Когда же? Потом! Что это значит? Когда вернется брат? Но всякий раз ее загнанный взгляд обезоруживает меня. Прошу, если ты любишь меня, не говори об этом и верь мне. Я верю, но... Чего ждать? Три месяца мы встречаемся и с каждым вздохом становимся все ближе - по крайней мере мне так кажется. Для нее я готов, наверно, украсть и убить, значит сумею и ждать, но, по-моему, слишком жестоко и непонятно то, что я до сих пор не проник дальше ненавистной ниши у входной двери. Зачем? Зачем она меня мучит? Разве не знает, что я желаю ее всем своим голодным телом, которое как будто не принадлежит мне, что даже ее мимолетное прикосновение волнует меня, и я не знаю, что делать, я высох от этой непрестанной тоски по ее телу! Ночью и днем... Я нисколько не скрываю этого и готов поклясться, что она знает об этом не хуже меня. Я знаю, потому что и она себя выдает: слабеет в моих объятиях каждый день мысленно отдается мне на темных улицах или на уединенной скамейке в парке - я чувствую, как ее тянет ко мне, она едва не теряет сознания, но все-таки... все-таки всегда вовремя приходит в себя! На самом краю милосердного обрыва, когда уже некуда больше шагнуть. Прошу тебя, не надо! Неужели она не чувствует всей муки и унизительности этих воровских объятий? Наверное, чувствует, и все же, когда я однажды в пустом парке, потеряв голову, попытался действовать решительно, то встретил такой отпор, что сейчас же отступил. Она отрезвела. Ей стало холодно. Я испугался отчуждения, пронесшегося между нами, мне слишком дорога была наша, пусть платоническая близость, чтобы я мог взять ее силой или воспользоваться ее минутной слабостью. Иногда я подозреваю ее в обыкновенном упрямстве, и тогда во мне растет гнев. Я упорно молчу. Может быть, набивает себе цену? Не оскорбляй ее! "Не сердись, Гонзик", - говорит она, робко притрагиваясь ко мне. Ладно, я мгновенно таю, как восковой шарик, и больше не сержусь. "Я тебя мучаю, правда? А ты не сердись!" И мы опять полны чрезмерной предупредительности и с жаром прощаем друг другу воображаемые вины, растроганные взаимной нежностью, мы больше не говорим об этом, но это висит над нами свинцовой тяжестью вопроса, от которого не уйдешь. Это непрекращающееся напряжение превратило нас в странных противников, которые любят и в то же время подстерегают друг друга с настороженностью хищника; мы, даже не сговариваясь, начинаем избегать уединенных мест. Да, это борьба, тихая и ласковая, но она приводит в отчаяние! Чего она боится? Я перебираю все возможности, которые способен измыслить со своей чисто мужской точки зрения. Меня? Чепуха! Боли? Смешно так думать о ней. Последствий? Или риска, что от всего останется неприятное впечатление, которое могло бы что-то нарушить между нами? О, эта мысль повергает меня в смятение, я поспешно ее отгоняю, чтоб она не застряла во мне. Чепуха! Или она боится неизведанного? Но было ли это для нее неизведанным? Этот вопрос до тех пор не давал мне покоя, пока однажды, за столиком в пустом кафе, я не высказал его прямо, ничуть не стыдясь захватить им Бланку врасплох.
- Послушай, - начал я равнодушнейшим тоном, - я давно хотел тебя спросить... У тебя уже был мужчина?
Она отразила первую атаку ненужным вопросом, но от меня не укрылся ее испуг.
- Ты что имеешь в виду?
- Ты меня поняла, - уличил я Бланку, накрывая ладонью ее руку.
Она еще попыталась превратить все в шутку, но рука ее задрожала.
- Ты уверен, что джентльмен может задавать даме такие вопросы?
- Я не джентльмен.
Я не даю сбить себя, я хочу знать. Она ищет спасения в игре. Усталый зевок, видимо, должен служить прелюдией.
- Да... было, кажется, штук двести. Или меньше? Кто в таких случаях считает, правда? Еще что угодно, сэр?
Я сжимаю ей руку, холодную как металл, и качаю головой.
- Больше ничего. Я спросил серьезно, но ты можешь не отвечать!
Светлая прядь волос соскользнула ей на левую щеку, когда она наклонила голову; глядит в сторону, вертит в пальцах ложечку, потом кладет ее на мрамор. Ложечка звякает.
- Тебе будет очень неприятно, если я скажу - да?
Рука ее выскальзывает из-под моей ладони, и при взгляде на ее глаза меня сокрушает чувство жалости. Мальчишка, сопляк! Идиот! Лучше б она надавала мне пощечин! Стыд охватывает все мое существо. Получил? Я зачем-то ерошу себе волосы, кривлю губы улыбкой.
Говори, говори скорее, каждая секунда молчания затягивает в болото!
- Я не умею лгать, - произносит она еле слышно. - По крайней мере тебе.
- Господи, - слышу я свой собственный голос, но будто откуда-то издали. Разве мы живем в средневековье?
И мной овладевает неудержимая болтливость, я возмущаю стоячую тишину и беспечно смеюсь, но мне скверно от каждого слова.
- Забудь об этом. Ничего не было. Ведь тогда мы друг друга не знали...
И так далее.
- А ты?
Спасительный вопрос - он пресекает мою болтовню, я махнул легкомысленно.
- Я? Ах да, конечно... Я пошло нормален.
Она просительно кладет мне ладонь на руку.
- Не будем больше об этом, хорошо? Ты проводишь меня домой, Гонзик? У меня глаза слипаются...
Я перевожу дух. Знаю, что к этому нелепому вопросу я больше никогда не вернусь, но знаю также, что он застрял во мне и будет возвращаться.
Мы поднимаемся по Замковой лестнице, под нами волнуется город, и я нарочно отстаю на несколько шагов.
- В чем дело, старик? Задохся?
- Хочешь, бегом взлечу?
- Так чего же отстаешь?
- Хотя бы оттого, что у тебя великолепные ноги.
Она укоризненно сдвигает брови и ждет, чтоб я подошел.
- Знаешь, ты кто? Бесстыдник.
- Пусть будет так, - смиренно соглашаюсь я. - Но я уверен, что никогда еще не смотрел на женские ноги так целомудренно. Я открою тебе одну тайну мужчин: большинство из нас начинает оценку с ног. Душа сначала на одном из последних мест. Здорово?
- Гм!.. Ну так и я открою тебе тайну женщин: вы жестоко ошибаетесь, если думаете, что большинство из нас не знает об этом. Здорово?!
- Однако вы не можете нам это запретить. Один - ноль в мою пользу.
- Однако нам и в голову не приходит запрещать. Я, пожалуй, тоже бесстыдница, оттого что мне приятно, что мои ноги тебе нравятся. Ничья?..
Пан Кодытек появляется бесшумно, как стрекоза, и я представляю себе, как у него от удивления вытянулась бы физиономия, если б он мог прочесть, что я написал. Но, может быть, я ошибаюсь, ведь ничего особенного между нами не происходит. Только улицы и закоулки города сплошь переименованы. Вонючий перекресток на Кампе получил название "У пана в шляпе", в мрачном доме на кривой староместской улице живет Раскольников, и в покрытом плесенью коридоре пахнет необычайным убийством. Так возникает новая топография города, с совершенно новой историей каждой местности и новым прошлым мелькающих мимо нас людей. Сколько жестов и намеков, при помощи которых можно понять друг друга без слов, сколько условных выражений! Всякий раз как нам случится высказать одну и ту же мысль, просто необходимо слегка попрыгать и пробормотать таинственное заклинание: Шекспир! Бэкон! Обнаруживаю, что она суеверна, как дикарка, делает вид, будто верит в общеизвестные приметы, и еще разработала для себя целую систему своих собственных примет и держится за них с детским упрямством, хоть я и не вполне уверен, что она относится к ним серьезно. Я подымаю ее на смех, но при этом замечаю, что сам тоже суеверен; быть может, это проявляется в том, что я намеренно все делаю наоборот, подтверждая суеверие самым его опровержением. Я редко называю ее по имени, а в выборе прозвищ проявляю порядочную изобретательность, но они никогда не имеют никакого отношения ни к окружающей обстановке, ни к моему расположению духа. Нет, я не в состоянии написать их на бумаге, боюсь, что, выраженные буквами и вырванные из мерцающей летучей атмосферы мгновения, они тотчас заболеют банальностью. Оттого что принадлежат безраздельно тем минутам.
Война и город! У нас нет в нем дома, и крыши над нами чужие; это безличные крыши неуютных кафе, кино и железнодорожных вагонов. Неважно: оттого что у нас нет дома, нам домом становится целый город. Возможно, если б люди не придумали заборов, им принадлежали бы сады на всем земном шаре.