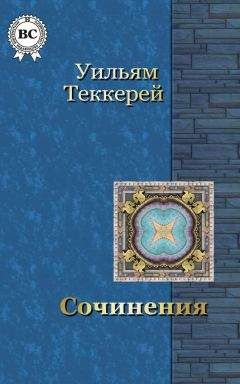Уильям Теккерей - Творчество; Воспоминания; Библиографические разыскания
С тех пор, как на сцену английской беллетристики выступили, тому года два, новые и сильные таланты в лице Теккерея (автора "Vanity Fair") и Коррер-Белля (автора "Дженни Эйр" и "Шарлей"), перевес этого направления в английской литературе сделался несомненным, и звезда писателей, подобных Больверу и Геррисону, начала меркнуть окончательно.
Повесть Теккерея "Самуил Титмарш и его большой гоггартиевский алмаз" отличается тою привлекательною наивностью и лукавым добродушием, к которым мы уже приучены другими произведениями этого автора. В повести этой описаны похождения молодого ирландского детины, конторщика у какого-то негоцианта, получившего все свое счастье с помощию нелепой старинной булавки, подаренной ему одной из классических ирландских же старух.
О "Базаре Житейской Суеты" я еще недавно говорил. Читателям "Современника" роман этот знаком. В "Отечественных Записках" продолжается его печатание. Перевод "Отечественных Записок" принадлежит г. Введенскому, и я так часто хвалил переводы г. Введенского, что теперь с полным беспристрастием могу указать на один недостаток, от которого ему будет нетрудно избавиться. Все мы не раз смеялись метким, забавным, хотя и немного простонародным русским выражениям, которыми г. Введенский, в своем переводе "Домби и Сын", по временам силился передавать бойкий юмор Диккенса. Многие из этих смешных выражений показывали некоторое злоупотребление вкуса, но они были новы, публика наша не читает Диккенса в оригинале, и потому все были довольны странными фразами, смешными прибаутками, которые г. Введенский по временам влагал в уста неустрашимой "Суссанны Ниппер" и "Лапчатого Гуся", которого нос и глаза, в кровавом бою, превращены были в горчичницу и уксусницу. Г. Введенский вдавался по временам в юмор вовсе не английский и не Диккенсовский, его просторечие не всегда льстило щекотливым ушам, но наконец оно было довольно ново, а изящества тут никто не требовал. Один раз можно было перевести английский роман по такой системе, но, взявшись за роман другого писателя, нужно было или бросить совсем прежнюю систему просторечия, или придумать что-нибудь новое. Этого не сделал г. Введенский: он начал переводить Теккерея точно так же, как переводил Диккенса: тот же язык, те же ухватки, тот же юмор; тонкое различие наивного, бесхитростного Теккерея от глубокошутливого Диккенса исчезло совершенно. Потом, г. Введенский уже чересчур часто употребляет просторечие: у него действующие лица не пьют, а запускают за галстук, не дерутся, а кусают друг друга, один господин высокого роста назван долговязый верзила, другой, желая похвалить что-то, употребляет выражение славнецкое дело! Камердинер одного из героев, по словам другого героя, "бестия, требует и пива и вина и котлеток и суплеток. Вальяжный блюдолиз"! Наконец некий набоб Джозеф, одно из лучших лиц романа, в порыве нежных объяснений, называет девицу, в которую он влюблен, душкою и раздуханчиком. Выражения эти довольно смешны, но можно было бы употреблять их пореже.
Нынче мы видим в английской публике реакцию в высшей степени отрадную, хотя отчасти и преувеличенную. Тени бедных лекистов, когда-то столь гонимых, вероятно, ликуют в Елисейских полях, наблюдая за возрождением общего уважения к их праху; а поэты и прозаики, когда-то писавшие для одних друзей, нынче видят свои творения прославленными, а славу свою - утвердившеюся на прочном основании.
Не более пяти лет тому назад, посвящая второе издание своей "Джен Эйр" автору "Ярмарки Тщеславия", Коррер-Белль так выражался в своем предисловии:
"Почему я говорю об этом человеке? Я говорю о нем, читатель, потому, что вижу в нем глубочайший, оригинальнейший ум, еще не вполне признанный современниками, потому что я смотрю на него как на благодетеля общества, потому что еще никто до сих пор не нашел сравнения, способного охарактеризовать этого гениального писателя, не нашел выражения, ясно обозначающего его великие дарования. Теккерея сравнивали с Фильдингом, говорили о его юморе, остроумии, способности смешить. Он похож на Фильдинга так, как орел похож на коршуна. Фильдинг может садиться на падаль, Теккерей к этому не способен. Его остроумие велико, его юмор привлекателен; но и то и другое относится к остальным качествам его гения, как тихая зарница, играющая около краев летнего облака, относится к электрической, смертной искре в его недрах".
Не более пяти лет тому назад, этот панегирик, относящийся к весельчаку, трудившемуся в газете "Пунч" и рисовавшему забавные карикатуры, был единогласно осмеян многими критиками, - критиками, которые теперь, менее чем через какие-нибудь пять лет, говорят то же самое, не могут наговориться о теплоте души, о светлой натуре, о глубоком значении Теккерея... Теккерей то же делает для литературы, что и для жизни, осмеивая все поддельное, фальшивое, условное в делах людей, он с двойной силою нападает на все поддельное, фальшивое, условное в словесности. В мелких своих статейках, предназначаемых для шуточного журнала, наш автор так же исправляет нравы, так же разит ложь, как и в своих серьезных творениях. Никакая критика не наносила модным писателям нашего времени таких ужасных ударов, как теккереева шутка, как его пародия, по-видимому, писанная для шалости. Вспомните его историю о сантиментальном разбойнике и о нежной, слабой женщине, - эту пародию, от которой хохотал весь Лондон: то был злой, тяжкий удар Энсворту и подобным писателям. В "Алмазе", в "Ярмарке Тщеславия", в коллеции мелких статеек мы находим десятки самых едких насмешек над школой фешенебельных писателей; каждая насмешка попала в цель - за это можно ручаться. Вспомните в "Снобсах" несравненное описание раута у лэди Ботиболь и маленького Тома Прига, "который, отправляясь из этой духоты домой, считает себя фешенебельным человеком, только что насладившимся целой ночью неслыханного веселия!".
Куда не глядите, перелистывая издание теккереевых сочинений, везде видите вы беспощадную борьбу с ложью, - ложью литературною и светскою, во всех ее видах и проявлениях. Оттого у Теккерея много врагов явных и еще более скрытых, оттого многие ценители нарочно силятся говорить свысока о его значении: Теккерей, как всякий истинный и частный учитель нравов, поучает, причиняя некоторое страдание. Ему нет дела до нашего самолюбия и до наших скрытых недостатков: он не щадит первого и смело воюет с последними. С инстинктом почти шекспировским он проникает в отдаленнейшие изгибы сердца человеческого. Чтоб ценить Теккерея и быть ему благодарным, нужно иметь много прямодушия и даже силы характера. Оттого собрание теккереевых вещей, даже малейших его этюдов, делает из него едва ли не первого эссеиста всей Великобритании, считая в том числе самого Эддисона. Стоит только вчитаться со вниманием во всякую, самую незначительную вещицу нашего автора, чтоб приметить в ней яркую искру, кидающую новый, неожиданный свет или на один из житейских или на один из литературных вопросов. Люди, упрекающие Теккерея в его слишком сухом, безотрадном взгляде на жизнь, пусть прочтут хотя эти десять заключительных строк из его "Берра Лейндона".
Есть нечто необыкновенно наивное и глуповатое в этой древней манере сочинения романов, вследствие которой принц Преттимен, одаренный всеми телесными и душевными совершенствами, при конце своих приключений, получает в награду полнейшее житейское счастье. Романист, осыпая своего любимого героя всеми благами на свете, наконец, не зная, что еще выдумать, делает своего героя лордом. Странное понятие о добре! Величайшее благо в жизни, может быть, не есть удача и счастие! Бедность, болезнь и даже горб на спине могут быть не только наградой, но даже условием добродетельной жизни...
Нет сомнения в том, что мистер Теккерей часто доводит свои теории до преувеличения. Цели его не повредило бы некоторое количество солнечного света и уменьшение темных теней. Не оскорбляя истины, он мог бы создать характеры, достойные любви и уважения. Нечего напоминать о том, что всякий человек полон слабостей: об этом всякий знает. "Дивная Имогена", без сомнения, имела свои слабости, а старый Капулетти, по всей вероятности, не всегда был доволен поведением Джульетты. Есть что-то неосновательное в стремлении автора безобразить своих героев, поминутно опираясь на которую нибудь из их слабостей. Моралист, сующий мертвую голову между цветами и гирляндами пира, поступает не всегда разумно. В своей "Ярмарке" Теккерей сам поминутно силится разрушать сочувствие читателя к созданиям своей фантазии. Осуждая товарищей-романистов за их красавцев-героев и героинь, исполненных всевозможными совершенствами, автор бросается в противоположную крайность: из Доббина делает он идеал неловкости, а из Амелии - нестерпимо слабую женщину...
Заключение романа, при всем его достоинстве, самая грустная [часть] этой грустной книги. Думая о том, что сам Доббин, в награду за свою преданность, получил одно горькое разочарование, мы готовы прямо обвинить автора. Он похож на человека, хладнокровно сорвавшего и бросившего единственный цветок, встреченный им посреди пустыни. Соединение Лауры Белль и Артура в "Пенденнисе" столько же возмущает читателя: этот престарелый юноша, герой романа, так же недостоин Лауры, как Амелия - Доббина. Все это случается в жизни, но разве в жизни случается одно это? Почему из всего океана житейских событий автор избирает одни подобные события? Смешно награждать добродетельных героев, при конце книги, всеми благами мира; но противоположная крайность не имеет ли в себе тоже чего-то фальшивого. Если это печальное воззрение на жизнь искренно, то оно все-таки неистинно, или, по крайней мере, несообразно с тем, что мы видим на каждом шагу в обществе. И вот почему враги мистера Теккерея упрекают его в мизантропии, недостатке сердца.