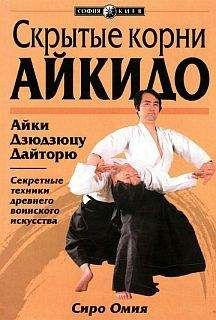Ван Мэн - Мертвеющие корни самшита
Будто выдавленные какой-то силой из земли пепельно-желтые корни самшита, испещренные извилистыми трещинами и черными наростами, напоминали камень причудливой формы. Или композицию, сотворенную неким модернистом, отражающую его своеобразный, изломанный, подавленный внутренний конфликт и силу фантазии. Из черных наростов выбивались жалкие веточки, похожие на больные конечности маразмирующих паралитиков и усеянные редкими желтоватыми листочками с белыми прожилками. Так-то оно так, но в этом болезненном деревце заключалась какая-то непостижимая эстетическая ценность, напоминавшая Вэнь Хану о сакральных вершинах и горных склонах. Неприметное, в сущности, деревце, не более двух чи[22] высотой, но раскидистое, живучее, крепкое, оно вызывало у Вэнь Хана ассоциации, которые вдохновляли и одновременно терзали его.
Сам вазон тоже был примечателен: цветная, землистого оттенка исинская керамика[23] в старинном духе. Квадратный горшок заужен книзу, как мерный сосуд для риса, и на каждой из сторон - по два слова: "высокие горы", "текучие воды", "свежий ветер", "ясная луна": восемь иероглифов, покрытых зеленым лаком, придавали вазону еще больше мрачного изящества.
С того момента, как самшит поселился в доме Вэнь Хана, у Юйлин и вовсе пропала радость, а соседи и коллеги, узнав его цену, принимались покачивать головой, кое-кто даже неодобрительно изрекал: "Не стоит он того". Но это еще больше притягивало Вэнь Хана к самшиту, и он, бывало, сядет к столу, уставится на свой бонсай и тупо просидит час, не испытывая ни радости, ни печали. Бонсай стоял у него на письменном столе, соседствуя с чайником, термосом, кружкой, рюмкой, настольной лампой, спичками, пепельницей, будильником, коробкой с печеньем, кружкой-термосом, тушью, а также коробочкой с присыпкой и кремом для лица, демонстрируя беспорядок, непродуманность, душевный разлад.
Когда Вэнь Хан осознал это, он решил, что одного самшита ему мало, к нему требуется еще и живописный свиток с каллиграфической надписью, изящные кисти, тушечница, тушь и бумага (так называемые "четыре сокровища" литератора), мебель из твердых пород с резным узором по черному дереву и вазы, вазы повсюду, так что и комната нужна посветлей, не с одним окном. Самшит-то он достал, но, оказывается, тому еще нужен фон. Ну, не скучно ли все это?
Одиночество и молчание корней самшита рвали Вэнь Хану сердце. Из гнева выходит поэт, боль взращивает писателя, и так родилось новое произведение "Молчание самшита", опубликованное весной восемьдесят первого. "Странный призыв, скрытый в подтексте", "пробуждение человеческой мысли", "исторгает слезы"... Восторженные письма лишь усилили одиночество Вэнь Хана.
А вскоре в одном влиятельном издании появилась статья с осторожной критикой в адрес "Молчания самшита", где отмечалось, что "Молчание...", написанное как будто бы своеобразно, на самом деле пусто и бледно. Внешне мягкий, критический текст прорывался яростным напором, больно ранив Вэнь Хана. А потом вышла еще одна статья с обобщениями относительно "стиля и творческого пути" Вэнь Хана, и там подчеркивалась такая особенность Вэнь Хана, как приверженность своему пути, отказ от тех требований, которыми руководствуются рядовые люди. Был в статье даже такой намек: указующий перст годится людям заурядным, но не подходит для тех, кто, как Вэнь Хан, уже нашел собственный путь, свои краски, свою точку зрения и свой облик. Заканчивалась рецензия словами о том, что только среди людей, подобных Вэнь Хану, и может появиться большой писатель.
"Большой писатель" - эти два слова бросили Вэнь Хана в дрожь и жар, будто у него началась лихорадка, и он на несколько дней углубился в себя, места не находил, поглощал пищу, не чувствуя вкуса, страдал икотой, отрыжкой, голова тяжелела, в ушах звенело, спина болела, поясницу ломило. Сходил в госпиталь, врач сказал, с вегетатикой не в порядке, а еще у него синдром Меньера, выписал ему таблетки с бромом, киноварь и смесь из пяти ингредиентов.
"Вегетативная нервная система, с вегетатикой не в порядке" - все эти словечки еще больше травмировали Вэнь Хана. Вегетатика - это же растения, так что же, и у них есть нервы? Оказывается, у него существуют нервы вегетативного типа! Получается, что у него с самшитом общая печаль, общее одиночество, общие ощущения! Мысли его путались, на глаза наворачивались слезинки всякий раз, когда он просто смотрел на эти искривленные и "отчужденные" корни!
Он уже подумывал объявить: "Корни самшита - это я"! Как тот француз, Флобер, заявивший когда-то: "Госпожа Бовари - это я!"
Еще одним следствием приобретения самшитового бонсая стало углубление трещины в их семье. "Это никак не подходит, совсем не подходит к духу нашей семьи!"; "Не нарочитая ли тут вычурность?"; "Ну, не переживай ты так, ладно?" - говорила ему Юйлин. Он недоумевал, почему, когда никто в мире о нем слыхом не слыхивал, жена любила его, понимала, поддерживала, а теперь, когда он пошел вверх, она его больше не понимает и они постепенно утрачивают общий язык.
И он стал временами уходить в сновидения или грезить наяву. Как-то получил письмо с фотографией от одной экзальтированной читательницы, Китай велик, разные в нем встречаются люди. Вслед за письмом пришла посылочка с кунжутными конфетами. Коробка была обернута красной бумагой с одним только словом - "Подношу". Фотография неважная, а конфеты вкусные, но в сопроводительном письме среди многословных и корявых фраз он обнаружил стихи, вычитал в них восхищение и преклонение, и это больше часа забавляло его. За последние годы он выслушал немало дифирамбов и уже привык к ним, как к глотку чая. Даже дешевенького, четверть юаня за лян[24] заварки (кипяточку добавишь, он совсем побледнеет, потеряет всякий вкус, появится горечь, солоноватость, кислота, терпкость - и не проглотишь). После дифирамбов наступают дни без них, и это тоже нестерпимо. Ведь чем больше похвал, тем больше их не хватает, это как наркотик, как нестихающий зуд. В последние дни уже не раздавалось никаких восхвалений, так что сладкие дифирамбы читательницы на какой-то миг послужили ему утешением.
Он было решил ответить горячим письмом, но подумал, что это будет хлопотно, и не ответил.
Такой психологический опыт подвиг его на рассказ, названный "Безответное письмо", опубликованный в иллюстрированном журнале со снимками сцен из балета "Лебединое озеро" на обеих сторонах обложки. После этого он получил шесть писем с фотографиями. Они, конечно, тоже остались "безответными". Тем не менее одна густобровая и большеглазая читательница лет двадцати отыскала его дом, и ему ничего другого не оставалось, как пригласить ее войти.
- Мне кажется, вы очень страдаете... - произнесла густобровая и большеглазая.
Он промолчал.
- Мне кажется, вы чего-то опасаетесь.
Он опять промолчал.
Говорить было не о чем, но читательница уходить не собиралась, принялась листать его рукописи, поднесенные ему журналы и книги, налила себе чаю, взяла конфетку из коробки "Сладких наложниц" и готова была обсуждать все подряд - журналы, книги, качество конфет, форму чайного стакана и даже высадку на луне американского космического корабля.
К обеденному часу вернулась Юйлин, и Вэнь Хан, не зная, как поступить, пробормотал вежливую фразу:
- Пообедаете с нами...
Читательница первая весело уселась за стол и не только сама уплетала, но и Вэнь Хану подкладывала, будто хозяйка дома...
Потом, разумеется, разразилась ссора с Юйлин.
7
Тесная квартирка, беспрерывные вторжения визитеров, нескончаемые распри с женой, то мелкие, то крупные, - все это привело к тому, что дом показался Вэнь Хану узилищем, а жизнь - приготовлением к казни.
Его первые произведения трогали читателя теплой поэтичностью, смутными надеждами, пульсирующим чувством, добротой маленького человека.
Минуло три года, и ничего похожего уже не выходило из-под его пера, сердце огрубело, нервы, отполированные, превратились в какие-то острые заточки. Он поражался, перечитывая свои старые, такие теплые и нежные, работы. Как это он умудрялся писать столь простенькие, жалостливые вещи? Или это обман самообмана? Ведь совершенно очевидно, что жизнь - податливый свинец, а вокруг-то, похоже, одни враги.
На литературных совещаниях он вылезал на трибуну и говорил, что его прежние произведения "окрашены ложью и надувательством", и отказался от них. Признал лишь одно - "Молчание самшита", посчитав его неким "прорывом", поднявшимся над заурядностью и вошедшим в высшие сферы. Это суждение у одних вызвало недоумение, у других - овацию.
После чего он за несколько месяцев не написал ни слова, потом вернулся к столу, но рвал страницы одну за другой, даже не дописав, а одна начиналась у него с такой фразы:
"В полночь пробудился, на постели, на стенах, во всей комнате было полно тараканов и клопов, давил, давил, но очистить от них комнату не смог и так захотелось взять в руки гранату и уйти в ничто вместе со всеми этими клопами и тараканами..."