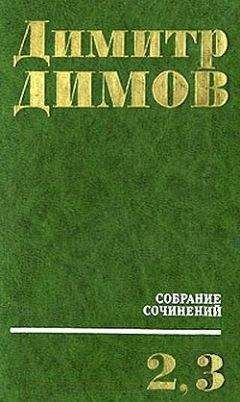Маргерит Дюрас - Месье X, именуемый здесь Пьер Рабье
-- Что вы собираетесь делать?
-- Я подумываю о небольшом книжном магазине, -- говорит Рабье. -- Я всегда был страстным книголюбом, возможно, вы могли бы мне помочь.
Я пытаюсь посмотреть ему в лицо, но мне это не удается. Я говорю:
-- Как знать?
Я вдруг вспоминаю одну вещь, которую мне сказали насчет страха: когда в вас стреляют, вы всем телом ощущаете, что у вас есть кожа. Появляется шестое чувство. Я пьяна. Еще немного, и я скажу ему, что мы убьем его. Еще один стакан вина, и это, наверно, случится. Меня вдруг охватывает упоительная легкость, как это бывает, когда летом погружаешься в море. Все становится возможным. Не хочу его обманывать, лгать этому предателю. Сказать ему. Сказать, что его убьют. На какой--нибудь улочке шестого округа. Может быть, только мысль о том, что мне влетит от Д., удерживает меня от признания.
Мы покидаем ресторан.
Мы оба -- на велосипедах. Он впереди, в нескольких метрах от меня. Я помню, как он крутил педали. Спокойно. Обычный парижский велосипедист. Вокруг его щиколоток -- как бы железные наручники, это смешит меня. Портфель придавлен ремнем к багажнику.
Я поднимаю правую руку и делаю вид, будто целюсь в него: бах!
Он по--прежнему крутит педали, он целую вечность крутит педали. Он не оборачивается. Я смеюсь. Я целюсь в затылок. Мы едем очень быстро. Его спина, большая, широкая, в трех метрах от меня. Невозможно промазать, такая она большая. Я смеюсь, я хватаюсь за руль, чтобы не упасть. Я старательно целюсь в самую середину спины, это надежнее, бах!
Он останавливается. Я останавливась позади него. Потом подъезжаю ближе. Он бледен. Он дрожит. Наконец--то. Он говорит совсем тихо:
-- Пойдемте со мной, тут совсем рядом квартира моего приятеля. Мы могли бы выпить стаканчик.
Это было на большом перекрестке, кажется на углу улицы Шатоден. Было людно, мы стояли в самой толчее на тротуаре.
-- На минутку, -- молит Рабье, -- зайдем на минутку.
-- Нет, -- говорю я. -- В другой раз.
Он знал, что я ни за что не соглашусь. Он попросил, так сказать, для очистки совести, на прощанье. Он был очень взволнован, но не пытался настоять на своем. Он был уже слишком поглощен страхом. И, пожалуй, отчаяньем.
Внезапно он отказывается от своего намерения. Он входит под арку и удаляется своим обычным деловым шагом.
Больше он не звонил мне.
Несколько дней спустя в одиннадцать часов вечера Париж был освобожден. Конечно, Рабье тоже слышал оглушительный колокольный звон всех парижских церквей и, возможно, видел толпы людей, высыпавших на улицы. Это невыразимое счастье. А потом он, должно быть, пошел прятаться в свое логово на улице Ренод. Его жена и сын уже уехали в провинцию, он был там один. На суде его жена -- красивая и бесцветная, по словам одного из свидетелей, -- заявила, что ничего не знала о службе мужа в полиции.
Мы не собирались отдавать его в руки судебных органов, не хотели доверить решение его судьбы присяжным, а пытались убить его сами. Было даже намечено место, где--то на бульваре Сен--Жермен. Но мы не нашли Рабье. Тогда мы сообщили о нем полиции. Полиция разыскала его. Он был в лагере Дранси.
На процессе я дважды давала показания. В первый раз я забыла сказать о том случае, когда он пощадил еврейского малыша. Я попросила, чтобы меня еще раз выслушали. Я объяснила, что забыла сказать, как он спас еврейскую семью, рассказала историю с детским рисунком. Я также сказала, что недавно узнала о двух спасенных им еврейских женщинах, которых он переправил в свободную зону. Генеральный прокурор заорал на меня: "Надо было раньше соображать, чего, собственно, вы хотите, вы обвиняли его, а теперь защищаете. Мы не можем тратить на вас время". Я ответила, что хотела сказать правду, что ее надо было сказать на тот случай, если эти два факта могут спасти его от смертной казни. Генеральный прокурор раздраженно попросил меня выйти. Зал был против меня. Я вышла.
На процессе я узнала, что Рабье вкладывал свои сбережения в редкие книги. У него были первые издания Малларме, Жида, а также Ламартина, Шатобриана и, кажется, Жироду -- книги, которых он никогда не читал, которых никогда не прочтет, которые он, возможно, пытался читать, но не смог. Одного этого факта в сочетании с профессией Рабье, на мой взгляд, достаточно, чтобы дать представление о человеке, которого мне пришлось узнать. Добавьте к этому внешность приличного господина, веру в нацистскую Германию, а также добрые дела, которые он изредка совершал, его развлечения, его неосторожность и еще, пожалуй, его привязанность ко мне -- женщине, принесшей ему смерть.
А потом вся эта история вылетела у меня из головы. Я забыла Рабье.
Его расстреляли, должно быть, зимой 1944/45-го. Я не знаю, где это произошло. Мне сказали: конечно, в тюремном дворе Френа, как обычно.
Вместе с летом пришло поражение Германии. Это был тотальный разгром. Он захлестнул всю Европу. Лето пришло со своими живыми и мертвыми и с этой немыслимой болью, докатившейся до нас из Концентрационных Лагерей Германии.