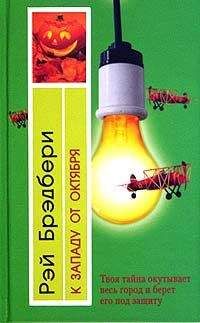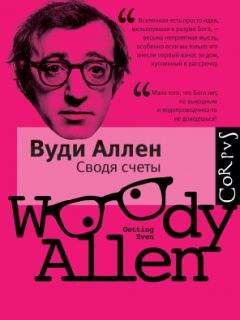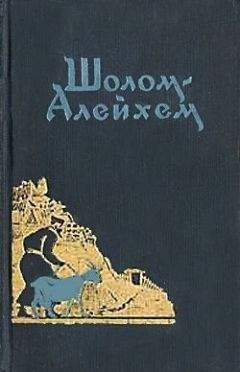Ганс Христиан Андерсен - Картинки-Невидимки
ВЕЧЕР XXVI
«Это было вчера поутру, на заре! — говорил месяц. — В большом городе не дымила еще ни одна труба, а я на трубы-то как раз и глядел. Из одной из них высунулась сначала чья-то голова, а потом и туловище по пояс; руки держались за края трубы. «Ура!» Это был мальчишка-трубочист; он в первый раз в жизни пролез через всю трубу и теперь глядел из нее на Божий свет. «Ура!» Да, это небось не то что карабкаться по узким коленам каминных труб! Ветерок так приятно освежал лицо трубочистика, а уж что за вид открывался ему оттуда! Весь город был как на ладони, а вдали виднелся и зеленый лес. Вдобавок" в ту же минуту взошло солнце. Его круглый, румяный лик глянул в лицо трубочистика; оно так все и светилось от радости, даром что порядком было замазано сажей. «Теперь весь город может любоваться мною! И месяц, и солнце!» — сказал он и замахал метлой».
ВЕЧЕР XXVII
«Вчера ночью, — рассказывал месяц, — я плыл над одним китайским городом. Лучи мои освещали длинные голые стены, тянувшиеся вдоль улиц. Там и сям в них виднелись двери, но все они были на запоре — что за дело китайцу до внешнего мира! Плотные жалюзи прикрывали окна домов, выходившие на внутренние дворы. Только в окнах храма мерцали огоньки. Я заглянул туда. Какая пестрота! От самого пола до потолка подымались ярко раскрашенные и вызолоченные картины, на которых были изображены земные деяния богов. В каждой нише стояли кумиры, полускрытые пестрыми занавесками и распущенными знаменами. Все кумиры были оловянные; перед каждым возвышался жертвенник, на котором стояла чаша со святой водой, цветы в вазах и горели восковые свечки. В глубине храма помещалось изображение Фу, высшего божества, в балахоне из шелковой материи священного желтого цвета. У подножия жертвенника сидело живое существо, молодой бонза. Он, вероятно, молился, да вдруг задумался о чем-то. Должно быть, дело было нечисто — щеки его горели ярким румянцем, а голова все больше и больше клонилась на грудь! Бедный Суи-Хунг! О чем он задумался? Унесся ли он мечтою в маленький садик, какие красуются здесь перед каждым домом, жалел ли о своем прежнем ремесле, желал ли опять работать на воле, вместо того чтобы вечно сидеть тут в храме, наблюдая за горящими восковыми свечками?.. Или он мысленно пировал за роскошно убранным столом, вкушая тонкие блюда и обтирая губы серебристой бумагой? Может быть, мысли его были до того греховны, что, выскажи он их, небо покарало бы его смертью? Может быть, он дерзнул унестись мысленно на корабле варваров в их отчизну, далекую Англию? Нет, так далеко он не залетал, и все же мысли его были так греховны, что греховнее их и не могла бы подсказать человеку горячая молодая кровь! И где же он предавался им? В храме, перед лицом Фу и других богов! Я знаю, где витали его мысли. На краю города, на плоской крыше, обнесенной блестящими, словно фарфоровыми, перилами, между вазами с чудесными душистыми белыми колокольчиками сидит красавица Пэ. Узенькие, плутовские глазенки, полные сочные губки и крохотная ножка! Башмачок жмет ножку, но куда больнее сжимает тоска сердечко! Тоскливо заламывает она нежные, словно выточенные ручки, и атласные рукава громко шуршат. Перед нею стеклянная ваза с водой; в воде плавают четыре золотые рыбки. Пэ медленно и задумчиво помешивает воду пестрой лакированной палочкой. Может быть, она задумалась о рыбках: как ярко блестит их чешуя, как спокойно им живется в стеклянной вазе, как сытно их кормят... и все же куда счастливее жилось бы им на свободе! Да, именно об этом и думала красавица Пэ. Затем мысль ее унеслась из родного дома в храм, но привлекли ее туда не боги. Бедняжка Пэ! Бедняга Суи-Хунг! Земные мысли ваши встретились, но, словно меч херувима, блеснул и разделил их мой холодный луч!»
ВЕЧЕР XXVIII
«Море как будто заснуло! — рассказывал месяц. — Волны его спорили прозрачностью с волнами чистого эфира, в котором я плыл. Взор мой проникал в водяную глубь и ясно различал там причудливые растения; их саженные стебли тянулись ко мне, точно какие-то гигантские древесные стволы; над вершинами их проплывали рыбы. Высоко в поднебесье неслась стая диких лебедей; один из них вдруг стал опускаться: усталые крылья отказывались нести его дальше. Взор его печально следил за удалявшейся воздушной вереницей, а сам он, широко распластав неподвижные крылья, плавно опускался вниз, как опускается в недвижном воздухе мыльный пузырь. Вот лебедь коснулся морской поверхности. Спрятав голову под крыло, долго покоился он на лоне вод, точно белый лотос. Вот потянул ветерок и зарябил морскую поверхность, сиявшую тою же прозрачной лазурью, как и синее небо; казалось, это катило свои волны не море, а самый небесный эфир. Лебедь поднял голову и встрепенулся; голубыми искрами заблестели стекавшие с его груди и спины капли воды. Утренняя заря зарумянила облака, и лебедь, освеженный и подкрепленный, плавно поплыл навстречу восходящему солнцу, туда, где виднелся вдали синеющий берег. Туда направилась вся воздушная вереница, туда же направил свой полет и одинокий лебедь. С тоской в груди, один-одинешенек медленно летел он над голубой водяной равниной!.. »
ВЕЧЕР XXIX
«А вот тебе еще картинка! — начал месяц. — Близ унылого берега Рокса стоит окруженный темными соснами древний монастырь «Врета». Луч мой скользнул между прутьями оконной решетки и осветил высокие своды, под которыми покоятся в каменных гробницах короли. Над ними прикреплена к стене эмблема земного величия — королевская корона. Она, впрочем, деревянная и только покрыта позолотою; поддерживает ее деревянный колышек, вбитый в стену. Вызолоченное дерево уже источено червями, от короны к гробницам протянута пауком воздушная сеть; это траурный флер, такой же недолговечный, как и печаль по умершим!.. Как тихо спят они! А я еще помню их всех так ясно! Так живо вижу горделивую улыбку на их устах, властно вещавших народу и горе и радость! Пока пароход переползает, как улитка, через горы, в монастырь заходит иногда путник и спрашивает имена погребенных под этими сводами королей, но они звучат для него чем-то давно позабытым, мертвым. Он смотрит на источенную червями корону и невольно улыбается; если, однако, он человек благочестивый, в улыбке его сквозит грусть. Спите же, мертвецы! Месяц помнит вас, месяц шлет ночью свои холодные лучи в ваше тихое царство, где вас венчает деревянная корона!.. »
ВЕЧЕР XXX
«У проезжей дороги, — рассказывал месяц, — стоит постоялый двор, а напротив его большой сарай. Его как раз собирались перекрывать, и крыша была разобрана. Я глядел между стропилами и в открытую отдушину, и мне отлично видно было все это неприглядное помещение. На одной из балок примостился спящий индийский петух; в пустых яслях мирно покоились седла. Посреди сарая стояла дорожная колымага; в ней крепко спали господа, пользуясь временем, пока лошадей поят и кормят, а кучер потягивается и позевывает, хоть и спал преисправно добрую половину пути. Дверь в людскую отворена настежь; видна смятая и развороченная постель; на полу стоит подсвечник, а в нем догорает сальный огарок. Холодный ветер так и гуляет по сараю; время далеко за полночь; близится утро. В одном из стойл спит вповалку семья странствующих музыкантов; матери и отцу снится жгучая, прозрачная, как слеза, жидкость в бутылке, а бледной дочке — слеза в чьем-то взоре. В головах у них лежит арфа, в ногах — собака».
ВЕЧЕР XXXI
«Заглянул я раз в маленький городок! — рассказывал месяц. — Было-то это еще в прошлом году, да все равно, — я так ясно помню все. (Вчера вечером я прочел об этом в газетах, но там это выходило вовсе не так ясно. ) Вожак медведя ужинал в харчевне, а Мишка стоял во дворе привязанным к поленнице дров. Бедный Мишка! Никогда и никому не сделал он ни малейшего зла, даром что смотрел так свирепо. В том же доме, на самом верху в чердачной каморке, играли при ярком свете моих лучей трое ребятишек. Старшему было лет шесть, младшему не больше двух. «Топ! топ!» — послышалось на лестнице. Кто бы это? Дверь распахнулась, и явился Мишка, огромный, лохматый Мишка! Он соскучился стоять во дворе один и отыскал дорогу наверх. Детишки струсили такого большущего лохматого зверя и попрятались по углам; он, однако, скоро отыскал их всех, обнюхал, но не обидел ничем! «Это, верно, большая собака!» — решили дети и принялись гладить его. Он развалился на полу, а младший мальчуган вскарабкался на него и принялся играть в прятки, зарывая свою золотистую кудрявую головку в густые черные лохмы медвежьей шубы. Затем старший мальчик ударил в барабан, медведь поднялся на дыбы и давай плясать! То-то веселье пошло! Все мальчики взяли в руки по деревянному ружью, Мишке дали такое же, и он держал его в лапах крепко-прекрепко. Товарищ хоть куда! И вот все зашагали по комнате: раз-два, раз-два! Дверь опять отворилась, и вошла мать ребятишек. Поглядел бы ты на нее! Она просто окаменела от ужаса, лицо ее помертвело, язык прилип к гортани... Младший же мальчуган весело кивнул ей головкой и залепетал своим детским язычком: «А мы в солдатики играем!» Тут вошел и вожак медведя!.. »