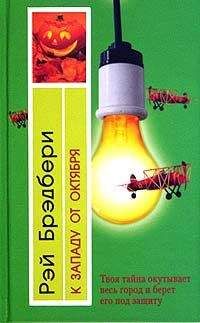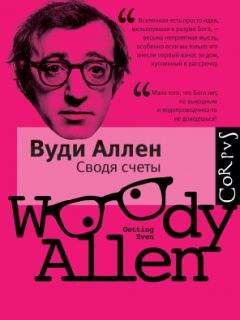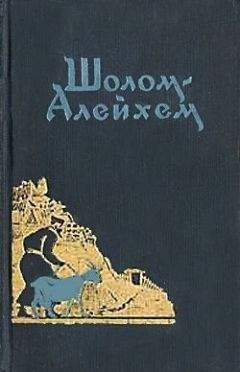Ганс Христиан Андерсен - Картинки-Невидимки
ВЕЧЕР XVIII
«Я уже рассказывал тебе, — начал месяц, — о Помпее, этом городе-трупе в ряду других городов. Знаю я и еще один, но уже не труп, а призрак города. В журчании фонтанов, мечущих свои струи в мраморные водоемы, мне всегда слышится сказка о плавучем городе. О нем и должны рассказывать водяные струи, петь морские волны! Над морем часто клубится туман; это вдовья вуаль: жених моря умер, дворец и город его стали мавзолеем. Знаешь ты этот город? Никогда не слышно на его улицах грохота экипажей или топота лошадиных копыт; по этим улицам плавают рыбы и, как привидения, скользят черные гондолы. Сейчас я перенесу тебя на главную площадь города, и ты подумаешь, что очутился в сказочном царстве. Между широкими плитами мостовой пробивается трава; вокруг одиноко стоящей башни вьются на заре тысячи ручных голубей. С трех сторон площадь окружена аркадами. Под аркадами спокойно сидит турок, посасывая свою длинную трубку; у колонны стоит красивый юноша-грек и смотрит на высокие мачты, памятники былого могущества. Флаги на мачтах повисли, как траурные вуали. К одной из мачт прислонилась отдохнуть молодая девушка; тяжелые ведра с водой она поставила возле себя на землю; коромысло осталось на плечах. А вот это прямо перед тобою не замок фей, а церковь! Ярко сияют вызолоченные купола и золотые шары, облитые моими лучами. Прекрасные бронзовые кони, что красуются наверху, странствовали, как настоящие сказочные кони: они побывали далеко-далеко и опять вернулись назад. Взгляни на эту роскошь пестрых узоров, выведенных на стенах и стеклах окон! Гений художника, украшая этот храм, как будто руководился прихотью ребенка! Видишь на колонне крылатого льва? Он все еще блещет золотом, но крылья его связаны, лев умер, сам король моря умер, дворцовые залы опустели, роскошные картины уже не прикрывают наготы стен. Под этой аркой прежде могли проходить только патриции, теперь под ней спит лаццарони! Из глубоких колодцев или из свинцовых камер, что близ моста Вздохов, словно и теперь еще слышатся вздохи, как в те времена, когда с разубранных гондол раздавалась музыка, а с роскошного Буцентавра летело в Адрию, царицу морей, обручальное кольцо! Адрия, окутайся туманом! Прикрой свою грудь вдовьей вуалью! Пусть она развевается и над мавзолеем твоего жениха, над мраморной призрачной Венецией!»
ВЕЧЕР XIX
«Я заглянул в театр! — рассказывал месяц. — Огромная зала была набита битком: дебютировал новый артист. Луч мой скользнул в маленькое окошечко в стене; к стеклу прижалось размалеванное человеческое лицо. Это был сам герой вечера. На подбородке курчавилась рыцарская бородка, а глаза были полны слез: артиста освистали, и не напрасно. Бедняга был жалок! Но жалким не место в храме искусства! Душу его волновали высокие чувства, он пламенно любил искусство, без взаимности! Раздался звонок режиссера, и герой смело и торжественно — как значилось в ремарках — выступил на сцену, снова предстал перед публикой, смотревшей на него как на шута. По окончании спектакля я увидел какую-то закутанную в плащ фигуру, торопливо сбегавшую по лестнице. Это был он, развенчанный герой вечера! Плотники перешептывались, пропуская его мимо себя. Луч мой проводил беднягу до самого его жилища. Повеситься? Некрасивая смерть! А яд не всегда под рукою! Я знаю, что ему на ум приходило и то, и другое. Я видел, как он подошел к зеркалу и полузакрыл глаза, чтобы посмотреть, красив ли он будет в гробу. Да, человек может быть глубоко несчастен и все-таки... ломаться! Освистанный артист подумывал о смерти, о самоубийстве и, пожалуй, оплакивал теперь самого себя! Плакал он горько, но если человек плачет, то какое уж тут самоубийство! Прошел целый год. Шло представление в каком-то театрике, играла бедная заезжая труппа, и я опять увидел знакомое размалеванное лицо и курчавую бородку. Лицедей опять смотрел на меня из окна, но смотрел улыбаясь, а ведь его опять освистали! Да, всего какую-нибудь минуту тому назад его освистала жалкая публика жалкого театра!.. Сегодня вечером из городских ворот выехали бедные погребальные дроги. Ни одна душа не провожала покойника-самоубийцу, нашего размалеванного, освистанного героя. Единственным провожатым был кучер. Никто не следовал за гробом, никто, кроме меня. Самоубийцу зарыли где-то в углу кладбища. Скоро могила его зарастет крапивой; сторож станет сваливать туда сор и негодную траву с других могил».
ВЕЧЕР XX
«Я из Рима! — начал месяц. — Там в центре города, на одном из семи его холмов, лежит в развалинах дворец Цезарей. Из трещин стен выглядывают дикие фиговые деревья, прикрывая наготу их своими широкими серо-зелеными листьями. Между кучами мусора пробирается осел и любовно косится на кусты колючего репейника. Отсюда некогда вылетали победоносные римские орлы, а теперь здесь ютится между двумя разбитыми мраморными колоннами бедная глиняная мазанка. Покосившееся окошко обвито диким виноградом, словно траурной гирляндой. В мазанке живет старуха с внучкой. Они теперь единственные обитательницы дворца Цезарей и показывают иностранцам печальные остатки сокровищ искусства. От роскошной тронной залы осталась одна голая стена; темный кипарис указывает своей длинной тенью на то место, где некогда стоял трон. Истрескавшийся пол покрыт слоем земли толщиною в аршин. На пороге часто сидит на своей скамеечке, прислушиваясь к звону вечерних колоколов, маленькая девочка, нынешняя обитательница дворца Цезарей. Замочную скважинку в одной из дверей дворца она зовет своим балконом: в нее она видит пол-Рима вплоть до мощного купола собора святого Петра. Сегодня вечером подле развалин царила, по обыкновению, полная тишина; девочка возвращалась домой; лучи мои освещали ей путь. На голове она несла полный воды античный глиняный кувшин. Девочка была боса, в коротенькой, разорванной на плечах рубашке, и я целовал нежные кругленькие плечики малютки, ее черные глазки и блестящие кудри. Она поднялась по крутой лесенке, сложенной из мраморных обломков и разбитых капителей колонн. Возле самых ног ее пугливо шныряли пестрые ящерицы, но девочка не пугалась. Вот она уже потянулась рукою к звонку, — а ручкой звонка во дворце Цезарей служила ныне висевшая на веревке заячья лапка, — да вдруг задумалась. О чем? Может быть, о прекрасном, разодетом в золото и серебро младенце Иисусе, Которого она видела в часовне, где теплятся серебряные лампады и где подружки ее поют знакомые и ей молитвы? Не знаю; только вдруг она оступилась, кувшин слетел с ее головы и разбился вдребезги о твердые мраморные ступени. Девочка залилась слезами. Обитательница дворца Цезарей плакала о разбитом глиняном кувшине! Босая стояла она на холодных ступенях и плакала, плакала, не смея дернуть за веревку, за заячью лапку, служившую ручкой звонка во дворце Цезарей!»
ВЕЧЕР XXI
Целые две недели не заглядывал ко мне месяц, но вот, наконец, я вновь увидел его круглый светлый лик над медленно плывущими облаками. Послушайте же, что он рассказал мне.
«Из одного феццанского города вышел караван; я долго следил за ним. Он остановился на ночь среди блестящей, словно покрытой льдом, солончаковой площадки; лишь небольшая часть ее была покрыта наносным песком. У старшины каравана был привязан к поясу мех с водой; изголовьем ему служил мешок с пресными лепешками. Поутру он начертил на песке своим посохом четырехугольник, вписал в него несколько слов из Корана, и весь караван прошел через это освященное место. На белом горячем коне задумчиво ехал молодой купец, сын знойной пустыни; об этом говорили и глаза его, и прекрасные формы тела, точно вылитого из бронзы. О чем он задумался? Не о молодой ли красавице жене? Всего два дня тому назад разубранный дорогими мехами и шалями верблюд обнес его прекрасную невесту вокруг городских стен. Гремела музыка, раздавалось пение женщин, приветственная пальба. Громче, чаще всех палил сам счастливый жених. А теперь... теперь он ехал с караваном по пустыне. Много ночей следил я за ними, видел, как они располагались на отдых у колодцев, в жалкой тени чахлых пальм, видел, как вонзали нож в грудь верблюда и жарили его мясо на угольях костра. Лучи мои охлаждали раскаленный солнцем песок и показывали путникам черные обломки скал, мертвые острова в безграничном море песков. Странствие было из счастливых: не пришлось каравану пострадать ни от нападений вражьих племен, ни от бича пустыни — смерча. Дома молилась за мужа и отца красавица новобрачная. «Живы ли они?» — спрашивала она мой двурогий серп. «Живы ли они?» — спрашивала она мой сияющий круглый диск. Теперь они уже миновали пустыню и сегодня вечером расположились на ночлег под высокими пальмами; над ними кружатся длиннокрылые журавли, из-за ветвей мимоз глядят пеликаны. Слон мнет неуклюжими ногами пышную траву и кусты; подходит караван негров; они возвращаются с ярмарки из глубины страны. На черных волосах женщин, одетых в синие бумажные юбки, сияют медные бляхи. Женщины гонят нагруженных быков; на спинах их спят нагие черные ребятишки. Один из негров ведет на веревке купленного им на ярмарке львенка. Вот они подходят к каравану. Молодой купец сидит неподвижно, весь погруженный в мечты о своей молодой жене. В стране черных он мечтает об оставленном им по ту сторону пустыни белоснежном душистом цветке! Вот он поднял голову!.. »