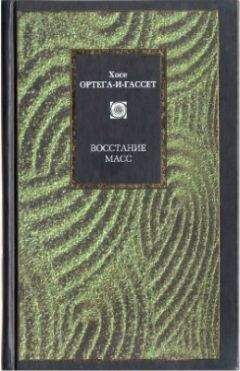Хосе Ортега-и-Гассет - Размышления о Дон Кихоте
Я не знаю более глубокого вида оригинальности, чем эта "практическая", активная оригинальность героя. Его жизнь - вечное сопротивление обычному и общепринятому. Каждое движение, которое он делает, требует от него сначала победы над обычаем, а затем изобретения нового рисунка поступка. Такая жизнь - вечная боль, постоянное отторжение той своей части, которая подчинилась обычаю и оказалась в плену материи.
16. ВСТУПЛЕНИЕ ЛИРИЗМА
Далее, перед лицом героизма - воли к приключению - мы можем занять две позиции: либо мы бросаемся вместе с героем навстречу страданию, ибо считаем, что героическая жизнь имеет "смысл", либо мы слегка встряхиваем действительность, и одного этого движения вполне довольно, чтобы уничтожить любой героизм,- так прогоняют сон, толкнув спящего. Выше я назвал эти два направления, в которых развивается наш интерес, прямым и опосредованным.
Следует подчеркнуть, что ядро действительности, к которому относятся они оба, одно и то же. Следовательно, различие состоит в нашем субъективном подходе к явлению. Таким образом, если эпос и роман различались по своему предмету - прошлое и современная действительность,- то теперь следует провести новое различие внутри темы современной действительности. Но это деление основано уже не только на предмете, но берет начало в субъективной стихии, иными словами, в нашем отношении к предмету.
Выше мы целиком и полностью абстрагировались от лиризма, который служит столь же самостоятельным источником поэзии, как и эпос. Не будем особенно углубляться в сущность явления и долго рассуждать на тему о том, что такое лиризм. Всему свое время. Напомним только общеизвестную истину: лиризм эстетическая проекция общей тональности наших чувств. Эпос не может быть радостным или грустным - это аполлоническое, равнодушное искусство, внешнее, неуязвимое, сплошь состоящее из форм вечных объектов, не имеющих возраста.
С лиризмом в искусство вторгается подвижная и изменчивая субстанция. Интимный мир человека изменялся в веках, вершины его сентиментальности иной раз устремлялись к Рассвету, а иной - к Закату. Есть времена радостные и времена печальные. Все зависит от того, представляется ли человеку оценка, которую он себе дает, положительной или нет.
Я не вижу необходимости повторять сказанное в самом начале моего небольшого трактата: независимо от того, служит ли содержанием прошлое или настоящее, поэзия и все искусство рассматривают человеческое, и только его. Если кто-то рисует пейзаж, в нем всегда следует видеть лишь сцену, где появится человек. В таком случае нам остается сделать только один вывод: все формы искусства берут начало в различных истолкованиях человека человеком. Скажи мне, как ты воспринимаешь человека, и я скажу тебе, в чем твое искусство.
И поскольку каждый литературный жанр есть до известного предела русло, проложенное каким-то истолкованием человека, нет ничего удивительного в том, что каждая эпоха предпочитает свои жанр. Вот почему подлинная литература эпохи - общая исповедь сокровенных человеческих тайн своего времени.
Итак, вновь возвращаясь к понятию героизма, мы обнаруживаем, что иной раз рассматриваем его непосредственно, а иной - опосредованно. В первом случае наш взгляд превращает героя в эстетический объект, который мы называем трагическим, во втором - в эстетический объект, который мы называем комическим.
Бывали эпохи, которые почти не воспринимали трагическое, времена, пронизанные юмором и комедией. Век девятнадцатый - буржуазный, демократический и позитивистский,- как правило, видел во всем одну сплошную комедию.
Соотношение, которое мы наметили между эпосом и романом, повторяется здесь как соотношение между расположениями нашего духа к трагедии и комедии.
17. ТРАГЕДИЯ
Как я уже сказал, герой - тот, кто хочет быть самим собой. В силу этого героическое берет начало в реальном акте воли. В эпосе нет ничего подобного. Вот почему Дон Кихот - не эпическая фигура, а именно герой. Ахиллес творит эпопею, герой к ней стремится. Таким образом, трагический субъект трагичен и, следовательно, поэтичен не как человек из плоти и крови, но только как человек, изъявляющий свою волю. Воля - парадоксальный объект, который начинается в реальном и кончается в идеальном (ибо хотят лишь того, чего нет),- тема трагедии, а эпоха, которая не принимает в расчет человеческой воли, эпоха детерминизма и дарвинизма, не может интересоваться трагическим.
Не будем уделять особого внимания древнегреческой трагедии. Положа руку на сердце - мы недостаточно ее понимаем. Даже филология еще не приспособила наши органы восприятия к тому, чтобы мы стали настоящими зрителями древнегреческой трагедии. Вероятно, мы не встретим жанра, в большей мере зависимого от преходящих, исторических факторов. Нельзя забывать, что афинская трагедия была богослужением. Таким образом, произведение осуществлялось, скорее, не на театральных подмостках, а в душе зрителя. И над сценой и над публикой нависала внепоэтическая атмосфера - религия. То, что до нас дошло,- немое либретто оперы, которую мы никогда не слышали, изнанка ковра, лицевая сторона которого выткана яркими нитями веры. Не в силах воссоздать древнюю веру афинян, эллинисты застыли пред нею в недоумении. Пока они не справятся с этой задачей, греческая трагедия будет оставаться страницей, написанной на неведомом языке.
Ясно одно: обращаясь к нам, древнегреческие трагики предстают в масках своих героев. Можно ли вообразить себе нечто подобное у Шекспира? Творческое намерение Эсхила, подвигающее его на создание трагедий, лежит где-то между поэзией и теологией. Тема его по крайней мере объединяет эстетические, метафизические и этические моменты. Я назвал бы Эсхила теопоэтом. Его волнуют проблемы добра и зла, оправдания мирового порядка, первопричины. Его трагедии - нарастающий ряд посягательств на решение этих божественных проблем. Его вдохновение сродни порыву религиозной реформы. Он, скорее, напоминает не homme de lettres[32], а святого Павла или Лютера. Силою набожности он стремится преодолеть народную веру, которая недостаточно отвечает зрелой эпохе. В других обстоятельствах подобное намерение не подвигло бы человека на сочинение стихов, но в Греции, где религия была более гибкой и изменчивой и где жрецы не играли особенно большой роли, теологический интерес мог развиваться неотрывно от поэтического, политического и философского.
Однако оставим в покое греческую драму и все теории, основывающие трагедию на никому не ведомом фатализме, согласно которому именно поражение и гибель героя сообщают жанру трагическую направленность.
На самом деле вмешательство рока не обязательно и, хотя чаще всего герой побежден и ему не удается вырвать победу из рук судьбы, он всегда остается героем. Обратимся к эффекту, производимому трагедией в душе обывателя. Если он искренен, то обязательно скажет, что все происходящее ему представляется чем-то невероятным. Раз двадцать в течение представления он готов был подняться с места и посоветовать герою отказаться от своей цели, перестать стоять на своем. Обыватель справедливо считает, что все несчастья протагониста происходят из-за его упорного желания достичь намеченной цели. Откажись герой от цели, и все уладится, и тогда, как говорят китайцы в конце своих сказок (намекая на кочевой образ жизни, который они вели в прошлом), можно осесть и нарожать много детей. Итак, рока нет, или то, что неизбежно должно случиться, случается неизбежно, ибо сам герой хочет так. Несчастья Стойкого принца[33] фатальны с тех пор, как он решает быть стойким, но сам он не фатально стоек.
Я полагаю, что классические теории страдают здесь простым quid pro quo[34] и следует их исправить, принимая во внимание чувства, которые пробуждает героизм в душе обывателя, чуждой всему героическому. Простому обывателю неведомы проявления жизни, в которых она щедро себя расходует. Он не знает, как жизнь выходит из берегов, как жизненная сила нарушает свои пределы. Пленник необходимости, все, что он делает, он делает только по принуждению. Он действует лишь под влиянием внешних сил, его поступки не выходят за рамки реакции. Ему и в голову не придет, как ни с того ни с сего можно отправиться на поиски приключений. Всякий движимый волею к приключению кажется ему слегка ненормальным. В трагическом герое он видит лишь человека, обреченного на вечные муки из-за нелепого стремления к цели, к которой никто не заставляет стремиться.
Таким образом, рок - не трагическое начало. Герою суждено любить свою трагическую участь. Вот почему с обывательской точки зрения трагедия всегда мнима. Все страдания героя происходят из-за его нежелания отказаться от идеальной, вымышленной роли, "role", которую он взялся играть. Несколько парадоксально можно сказать, что герой в драме играет роль, которая в свою очередь является ролью. Во всяком случае, именно свободное волеизъявление источник трагического конфликта. И это "воление", создающее определенный трагический порядок, новое пространство реальностей, которое только в силу этого существует, безусловно, пустая фикция для всех, кто не знает иных желаний, кроме направленных на удовлетворение самых элементарных потребностей, и кто всегда довольствуется тем, что есть.