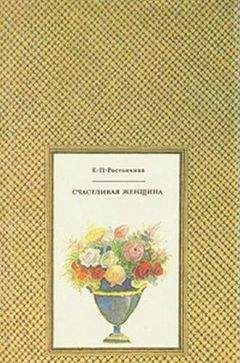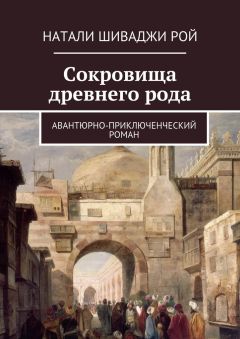Анатолий Байбородин - Озёрное чудо
— Не, мать, к добру дождик, будет нам талан[7].
— Добро выпьешь… — насмешливо кивнула мать головй. — Талан… Наш талан давно съел баран… Ну, езжай, отец, с Богом. Да молодухе, Фаине, как-то ненароком скажи, чтобы шибко-то ребят не гоняла, — сличали в тайге, вольные.
— Ничо, пусть привыкают. Не все лаской, а ино и таской учат, — умнее будут.
Проревев все утро, вытянув материну душу кручиной, Танька сутулилась в телеге, нахохленная и словно окаменевшая. Ванюшка же, которому страсть как хотелось в школу, нетерпеливо егозил на войлочном потнике, из последних сил тая суетливую радость. Хотя потом оглянулся, и радость померкла, закатилась вечорошним солнцем в хребты, — мать, держа за ручонку малую сестру, печально темнела у калитки и выплаканными за ночь, опустевшими глазами провожала ребятишек через весь приречный луг.
И все моросил и моросил нудный дождь, и поминались малому материны слова: наше счастье… дождь да ненастье. Когда проселочная дорога свернула к речному броду, Ванюшка обернулся и сквозь наволочь слез, сквозь морок увидел, — чернеет смельчавшая, одинокая мать, прижимая к себе Веру, — хотел было спрыгнуть с телеги и бежать к матери, но сдержался и, побаиваясь отца, беззвучно заплакал.
От реки Уды телега поползла крутым взъёмом-тягуном, и у самого перевала Ванюшка снова оглянулся, прощаясь с таежной вольницей, — осиротело и печально жалась к нависающему сосновому хребту лесничья изба, где осталась мать о чадах в разлуке денно и нощно горевать.
И невольно припомнилось мальцу самое счастливое… как прошлое и нынешнее лето собирали с матерью голубицу.
Голубичная страда яснее и желаннее виделась и поминалась студеными зимами… После Крещения Господня, когда земной дух так звенел и постанывал от крещенских морозов, что и нос боязно высунуть из избы, как бы не оставить его во дворе, когда сквозь окошко, чащобно заросшее снежным куржаком, едва сочился слезливый, серый свет, не разгоняя, а доливая углам печальных, сырых потемок, когда в трубе начинала скулить и завывать ночная метель, — вот о такую пору для маленького Ванюшки опять, народившись само по себе перед глазами, сияло всякое ушедшее леточко, опять, причмокивая, плескалась в лодку озерная рябь, опять шумела во всполохах теплого, тугого ветра березовая листва-говорунья, опять млели в степном мираже кучерявые саранки и приземистые ромашки, и снова мерцала перед глазами влажная голубичная россыпь.
В зимних сумерках избы леточко распускалось краше, чем зрелось наяву, еще желаннее выказывалось замершим глазам, отчего было до слез жалко, что ушедшее леточко больше никогда-никогда не вернется, что не усладился им в полную душеньку, не нагляделся всласть на разноцветье-разнотравье, — пробегал, прохлопал глазами, проиграл в лапту. А столь зоревых рос проспал, когда листва и травы еще так тихи и вдумчивы после ночи и так прохладны и чисты…
Вот и в жизни Ивана повелось: и любовь, и дружба виделись отраднее после заката, и ярче светились пред очами, когда уже-близенько локоток, да не укусишь, и, как в детстве, терзала досада, что опять пропустил, опять прозевал.
Вместе с летом поминались Ванюшке купания дотемна и досиня; поминались рыбалки с ночевой на другом от деревни, диком берегу озера, непролазно заросшем тальником и боярышником; поминалась и голубица, синеющая для малого на счастливой верхушке лета.
X
Пойдут, бывало, по голубицу на горб таежного хребта, по-медвежьи вздыбленного над лесничьим домом и приудинской долиной. Мать, на ноги не шибкая, приткнется к мало-мальскому курешку и берет ягоды быстрыми, мозольно-темными пальцами, словно доит голубичник или шерсть тянет из кудели, привязанной прялке, и, поплевывая на пальцы, прядет дымно-голубые нити — пальцы так и мельтешат, так и мельтешат над ягодной россыпью. А ведерко — в нем лишь бы донышко покрыть, а там уж само пойдет, — на глазах полнится голубицей.
Сестра Шура, о ту пору мужняя, которой быстро надоедает ребячья колготня, пасет ягоду неособицу, изредка, неохотно и ворчливо откликаясь на материно ауканье. Мать собирает голубицу подле ребятишек. Ванюшку же с сестрой Веркой одолевает лень, какая еще наперед их родилась, и, вырвавшись, в лес, точно годовалые бычок с телочкой на вольную мураву, задерут хвосты и пошли скакать по кустам, котелками брякать, только шумоток стоит в голубичнике. Найдут курешок — голубица вроде рясная — и бегут до матери наперегонки, поскольку каждому охота первому похвастать. Прибегут, запалятся, раструсят набегу припасенные слова, расшиньгают их в клочья о сердитый шиповник и одно лишь в голос ревут:
— Мам!., мам!., мам!., ягоды там!.. — тут уж, покраснев от натужного, неодолимого восторга, задыхаются словами, и шепчут сдавленным, сипловатым шепотом с тоненьким присвистом сквозь щели в зубах. — Ягоды там… с-синым-синё, с-синым-синё… с-син-нё-пре-с-с-син-нё!.. — здесь аж зубы сожмут до скрипа и мотают выгоревшими на солнце головенками, показывая, как там синым-синё, синё-пресинё, что и зубы студено ломит от ручейковой синевы, и глаза режет, и головушка кругом идет.
Мать отпугнется эдаким шалым восторгом, покачает маленькой головкой, от мошки и комаров туго повязанной белым, в крапинку платочком, и проворчит:
— Какой лешой вас по лесу носит… — но ворчание не избяное, нудное, похожее на капель из старого рукомойника, а лесное, сквозь смущенную улыбку, нарошечное ворчание, румяно сдобренное блаженным покоем, голубичным урожаем, цвирканьем птичек из отяжелевшей августовской зелени и лоскутков синего небушка, мигающего сквозь березовую листву. — Сядьте тута-ка, да и берите — ягода, она кругом одинакова. А то пробегаете, просивентите и останетесь с полыми руками. Ну-ка… ну-ка, покажите, чего набрали-то?.. обогнали, поди, меня, старую?.. — мать приговаривает, а руки ее, как заводные, так и чешут, так и чешут голубичник. — Надо бы вам, ребятки, по ведру всучить, а то чо же вы с этими манерками?! — мать вытягивает шею, пытается занырнуть взглядом в пустые ребячьи котелки, но Ванюшка с Веркой прячут их за спинами, — Вы уж, ребятушки, случаем не ссыпаете куда ягоду? — лукаво посмеивается мать, обирая голубичник вокруг себя. — Скрадок-то приметили?.. А то, не дай бог, потеряете. Тут же как иголку в стоге сена искать, — тайга бо-олыпа-ая. И пропадет ваша ягодка, останется бурундуку на зиму…
— Мам, мам! — опять верещат ребятишки, чтобы приглушить обиду, — понимают, что мать подсмеивается над ними, и начинают злиться. — Мам!.. Ну, мам!.. Пойдем, пойдем скорей!.. Там же синым-синё от ягоды!..
— Хватит, поди, носиться-то, — сердится мать. — Ишь, разыгрались. Мы пришли сюды игрушки играть или ягоду брать?! Вон с того края заходите и шуруйте… Прижмите свои терки-то, пока не стерли, — тут она смягчается и уже с подмигом добавляет: — Ишь, неугомоны… Вот бегаете по лесу, задрав глаза, а как на медведя напоретесь, — мать ведает, что здесь, подле лесничьего кордона, где денно и нощно брешут отцовы собаки, они сроду не будут шариться, а потому и смело поминает медвежье имя; в дремучей таежной пазухе она бы, конечно, не величала медведя по имени, чтобы не накликать беды, — сказала бы: он или хозяин. — Михаила Иваныч теперичи ягоды наелся да и завалился в кусты, полеживат себе и в ус не дует. Отдыхат. Но ежли вы его потревожите, тут берегись…
Ребятишки испуганно вглядываются в мать: смеется или взаправду говорит?.. Мать улыбается краями губ.
— Ну, ма-ам, ма-ам… — опять приступает Ванюшка, чуть не плача уже, — там же синым-синё от ягоды. Ты такой сроду не видала.
— О-осподи, Пресвятая Богородица, прости мою душу грешную! От навязались, идолы, на мою шею, а! И чо вам на одном месте не сидится?! Вам туды иголки натыкали, ли че ли?! Носитесь, как угорелые…
XI
Мать вздыхает в голос, потом, видя, что курешок ее почти выбран, вздымается с корточек, похрустывая занемевшими суставами. Потирает поясницу свободной от ведра рукой и, полностью не разогнув отвердевшую спину, в благодарном и вечном поклоне лесу, бредет за ребятами. А те, разом повеселев, скачут по желто-бурому чушачьему багульнику, по сырому, глубокому мху, как по сенной перине, от избытка воли и радости взбрыкивают ногами и перелетают через позеленевшие, скользкие валежины; потом, не то понарошку, не то взаправду запутавшись в багульничьих сетях, падают чередом, оглашенно смеются, расплескивая густую, тепло-смолистую, хвойную тишь, и снова мельтешат среди берез и лиственниц.
Мать же занемеет вдруг, стоит как вкопанная, смотрит им вслед отпахнутыми и остекляневшими глазами; смотрит печально, хотя не может понять, в чем же причина нежданной-негаданной печали. Впрочем, на самом донышке сути зреет предчувствие, что все вдруг померкнет и не станет ни леса, ни ягодника, ни ребятишек, беспечно скачущих впереди нее. Вроде опять же и понимает, что пустое надумала, но сразу не может освободиться от неведомо откуда навязанной ей цепкой печали. Спасается молитвой. Шепчет: