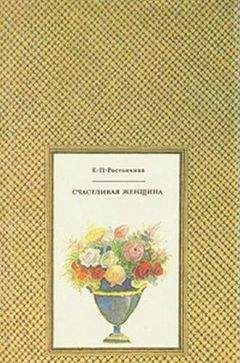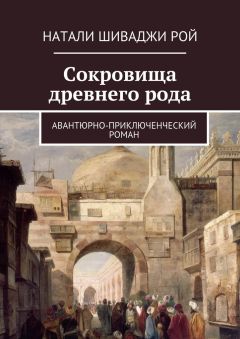Анатолий Байбородин - Озёрное чудо
Потом уже краснобаяли все кому не лень, у кого язык маломало подвешен, но Баясхалан-новобранец, как приметил Елизар, пускал подблюдные здравицы мимо ушей, сутуло и отрешенно ютясь подле сухонькой, стеснительной буряточки, про какую Елизар слыхом не слыхивал, но однажды видел в кино рядом с Баясхаланом.
А наказы и посулы не иссякали, словно говорливый хмельной ключ, сверкая на солнце, бил из глубинных недр. Ухвативший из бурятского поговора лишь самые ходовые выраженьица — вроде «шыры бы, угы?..»[81], да, грешным делом, сластолюбивое: навро-де: «шы намэ талыштэ»[82] — Елизар попервости мастерил на лице слушающий, словно все понимающий вид и вместе со всеми хохотал…может, над самим собой… дружно гомонил, но потом, с разгону охмелев, улыбался и мотал курчавым чубом уже невпопад, и когда Баясхалан удивленно, осуждающе глянул на него, — махнул рукой и, уже не оглядывая застолье, навалился на еду, благо есть чем ублажить скучающее чрево. Живущий лето без отцовского и материнского призора, кормился парень так-сяк: то в чайной, то у старой тетушки Ефимьи; теперь же, дорвавшись до обильного харча, без всякого стеснения так уписывал, что за ушами пищало.
Перво-наперво, чтобы промочить и остудить глотку, опаленную огненной водой, выхлебал чашу арсы — молочного, с пережаренным и толченым зерном, кисловатого напитка; а уж затем отпотчевался позами (бууза), кои лишь в бурятских застольях вкусны и сытны: и баранина свежая, сочная, и корочка из тонко раскатанного теста не разваливается при варке на пару, и сок из позы не выплескивается на твои праздничные штаны. Не успел еще отпыхаться после поз, как сноровистые хозяйки разметали по тарелкам жирную баранину, варенную бухэлёром, с торчащими из жирной мякоти гладко оструганными, березовыми стрелами, — чтобы руки не обжигать; и тут же для запива налили в монгольские пиалы густой, жаркий бульон, терпко пахнущий диким луком-мангыром, и зеленый чай — ногоон сай. И так Елизар раздухарился, что помимо поз и бухэлёра отпробовал саламат и сушеные молочные пенки, какие раньше изредка, чтобы побаловать ребятишек, варила и сушила мать, прозывая их на бурятский манер хурмэ. И запил он хурмэ хмельной аракушкой, настоянной на забродившем кислом молоке, и уж потом, отвалившись от стола, подмигнул Баясхалану: мол, поразмялись, теперь можно и поесть.
Зелени на стол не подавали — не привадились к зелени тутошние забайкалы, да и ничего на северно-восточной земелюшке толком не росло, кроме репы, картошки да моркошки, и тут, хочешь не хочешь, а без мяса не проживешь.
Осоловевший после щедрой выпивки, от пышущего жаром свежего мяса Елизар махом вытрезвел и такой налился бычьей силушкой, что, чудилось, одной левой заборол бы самого медве-жалого бурята в любой борьбе: хоть в русской — на лопатки, хоть в бурятской — на три точки; а милей того, ухватил бы веселую деваху, сгреб в охапку и, как беремя дров, унес бы, игриво взвизгивающую, в радостном испуге припадающую к груди, — унес бы ее, ярую и жаркую, налитую звероватой силой, в березовую гриву и бросил в просушенные зноем, глубокие, пахучие-мхи… Но с девами на проводинах вышла беда — Елизар с клокочущей внутри досадой высмотрел в застолье двух русских девиц, неведомо когда подчаливших к столу, но одна была не шибко при-глядиста, шадровита — на лице немытик горох молотил, а другая, покрасивше, липла остреньким плечом к рыжему долговязому парню, Елизарову однокласснику Грихе. «Да-a, зря шаманил подле табисуна: шани-мани на бурхане… — передразнил он себя и ругнул кособокую старую березу, возле которой разыгралось его, опущенное с прикола, резвое воображение. — Без девушек тут со скуки сдохнешь. Водку жрать да на пьяных мужиков любоваться…»
Были за столом и молоденькие буряточки, и даже завлекательные, но к ним Елизар не рискнул бы соваться, — отошьют русского, да и опасно — застолье осудит игривую выходку, а задиристые парни тут же схватятся за кулаки.
— Ты пошто девок-то мало позвал?! — не договаривая… русских, вроде и смехом, но с едва скрываемой досадой приступил к Баясхалану, когда отошли перекурить и остались с глазу на глаз. — Себе-то, паря, отхватил…
— Ну и привел бы свою Верку…
С Верой Беклемишевой, девой бравой и удалой, схлестнулся Елизар вначале лета; помаялся месяца два, трижды прихватил с деревенскими ухарями, трижды проклинал, но, залитый покаянными слезами, обласканный, трижды прощал, и неведомо чем бы кончилась маятная любовь, да заполошная Вера нежданно-негаданно вдруг расписалась с наезжим парашютистом-пожарником, которого, как божилась, полюбила еще прошлым летом.
— Верку-то?.. — вздохнул Елизар, — С Веркой, Баясхалан… разошлись как в море корабли. Зад об зад, и кто дальше улетит. Так от…
— Жалко. Хорошая девчонка.
— Все они хорошие, когда спят… лицом к стенке… А может, паря, в деревню слетаем, девок привезем. Мужика с машиной попросим…
— Да ладно, успокойся. Выпей…
— А ты напейся воды холодной, про любовь забудешь, — насмешливо пропел Елизар.
— А хочешь, познакомлю?..
Елизар воспрял, выгнул петушиную грудь.
— Есть тут одна… красотка. Увидишь, рядом посажу. Анжела, звать…
Теперь по левую руку от Елизара, чуждо застолью и скучающе, посиживала девица — похоже, столичная, улан-удэнская: в красных, широко расклешенных штанах, до скрипа затянувших длинные, узкие бедра, в облегающей, с опасным вырезом, черной кофтенке; на голове всклоченной копной торчал лихой начес, а раскосые глаза дева так жирно и копотно размалевала, что и зрачков не видать сквозь слипшиеся ресницы; к тому же правый глаз завешивала жесткая, конская челка. В отличие от яравнин-ских бурят из буддийского рода хори — круглоликих, с утопающими в щеках, мелкими носами, — Анжела, судя по крупному носу, была из западных иркутских бурят…хударя, дразнили восточные… из эхиритов либо булагатов, крещеных шаманистов, некогда кочевавших в усть-ордынских степях и лесах, подле Байкала и на острове Ольхон. Уловив азартные Елизаровы погляды, Анжела нацепила круглые очки и так, не приведи мама, презрительно зыркнула на парня сквозь мутные стекла, что у того душа похолодела и сжалась от испуга. Похоже, диковинная залета была не из простых, — смекнул Елизар, усмотрев на тонкой шее корольки, набранные из одуловатых, смахивающих на запеченную сосновую смолу, блескучих камешков; Елизарову догадку подтверждали и огрузлые перстни на холеных пальчиках, которыми она, отставив острый вишневый коготок, церемонно несла рюмку к багровому, капризно изогнутому рту.
Елизар хоть и оробел перед залетной кралечкой, а все же воротил в ее сторону зарные глаза и даже пытался заговорить, закинуть удочку, — вдруг клюнет, но краля, скользнув по нему скучающим взглядом, тут же отвернулась, деловито поддернула спадающие с мелкого носа тяжелые очки. «О-тё-тё-тё, какие мы гордые! — дернул плечами Елизар. — Слова не скажи. Еще укусит, чего доброго. Но ничо, ничо, мы тоже не лыком шиты. Будем посмотреть…»
* * *Разгоряченный, закрасневший народ решил охолонуться, размять одеревеневшие от долгого сидения ноги, и когда после треска и урчания магнитофон зверски взревел: «Э-э-эй, хали-гали!..», парни с девчатами ударились скакать, молотить траву каблуками; туда же, подметая землю багровыми клешами, лениво и раскачисто вплыла и городская краля; постояв, насмешливо оглядевшись, вдруг такое пошла накручивать ногами и вертлявыми боками, что все диву дались и тут же, раздавшись, замкнули вокруг нее хоровод. Отплясав, показав деревенщине городской шик, той же манерной походочкой ушла за избу, куда вскоре нарисовался и распаленный Елизар.
Но сперва он поглазел на широколицего, коротконогого, с необъятным торсом, медвежалого детину, по уличному прозвищу Дамбиха-хулиган, под восторженные крики парней и мужиков ломавшего трубчатые кости. Держа левой рукой кость, он какое-то время тряс над ней правой кистью, потом резко, с хеканьем бил, и кость лопалась. Раззадоренный, сунулся было в круг и Бадма Ромашка, но не тут-то было, лишь кисть отбил, что для художника большая беда — чем рисовать? Следом…попыток, не убыток… хотел и Елизар опробовать силенку, да благо, Баясхалан охолонил пыл — кости ломать нужна отвага и сноровка, да и рука набитая.
— Здорово, братуха! — Дамбиха-хулиган обнял Елизара и, стиснув в медвежьих лапах, оторвал от земли. — А я гляжу, нос воротит, не замечат — думаю, зазнался, паря.
— Да ну, с чего зазнаваться. Не заметил…
— Ладно, — похлопал Дамбиха-хулиган по Елизарову плечу. — Как жизнь? В Жаргаланту не ездил?
Дамбиха приходился Баясхалану родней, потому и гулял на проводинах; Елизар же знал паренька по малолетству: одно время Калашниковы жили на таежном займище подле реки Уды, и величалась тамошняя божья пазуха — Жаргаланта… Жаргаланта нютаг, Счастливая земля. Там, где тайга отшатывалась от реки, в пойменной буйнотравной и воистину счастливой долине, Калашниковы пасли бурунов да телок и, откормив, после Покрова сдавали в откормочный совхоз. Ниже по реке, подле озерка, прозываемого бурятами на свой лад Черным — Хара нуур, потому что озеро солончаково не белело, как другие, Дамбихины родители летами косили сено, и маленький Елизарка ловил ленков и хариусов, собирал грибы-ягоды, играл с веселым парнишкой, которого тогда еще не дразнили Дамбихой-хулиганом. Копали клубни алых саранок, буйно цветущих в редколесье, из которых Дамбихина мать варила ребятишкам лакомый тибхен (тушеная саранка). И хотя лет через пять тропы их круто разошлись, безмятежное речное и таежное детство жило в памяти невозвратным счастьем, и Дамба, рано заматеревший, мог прослезиться при одном лишь поминании Жаргаланты нютаг, и, коль жить им пришлось в отчаянном и разбойном аймачном селе, случалось, выручал Елизара в деревенских драках, не щадя ни русских, ни бурят. Махать кулаками парень был смалу мастак, и в пятнадцать лет им, известным в Бурятии боксером-юниором, гордился весь Яравнинский аймак, и его, настырного боксера, взахлеб хвалила аймачная газета. Что уж потом вышло, бог весть, но Дамбихина жизнь дала трещину: отсидев два года за драку, парень уже не вернулся на ринг, но стал попивать и, прибившись к здешним варнакам, шатался по деревне, сшибал рюмки и усмирял задиристых подростков. Вот тогда и привязалось к бывшему кулачному бойцу зловещее прозвище, — Дамбиха-хулиган, хотя, сколь помнил Елизар, сам он сроду мордобоя не затевал, но и не прятался от драк. Да при нем и редко затевались свары, потому что деревенские архаровцы боялись Дамбиху как огня. В армию хулигана не взяли — срок тянул, к тому же по пьянке отморозил по два пальца на ногах, и теперь перебивался случайными калымами — пилил дрова для казенной бани и школы, мало-мало плотничал, но все чаще и чаще днями отирался подле винополки, выманивая рубли на похмелье. Несчастные родичи молили желтоликого бурхана, чтобы парень окрутился, женился, завел ребятёшек и утих, остепенился в семейной колготне.