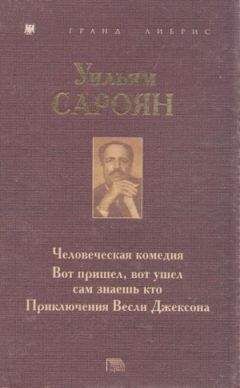Уильям Сароян - Приключения Весли Джексона
Караульных попросили все же поискать хорошенько, расспросить приятелей и постараться найти шляпу, потому что без соломенной шляпы Уинстенли играть на тромбоне не может. Вдруг и в самом деле хорошо играет! Если это так, то стоит потрудиться.
Караульные обещали заняться этим делом.
Через некоторое время все решили, что Уинстенли не умеет играть на тромбоне. Историю с соломенной шляпой он просто выдумал, чтобы его не могли разоблачить.
Уинстенли гордился тем, что он настоящий тромбонист, такие разговоры его оскорбляли, и в один прекрасный вечер, в воскресенье девятого июля, он извлек тромбон из футляра и собрал его. Все столпились вокруг него и ждали, что будет дальше, - человек триста, не меньше.
Уинстенли облизал губы, прижал ко рту мундштук тромбона и несколько раз подвигал взад и вперед кулису, чтобы она ходила более плавно.
Потом он заиграл что-то такое, от чего мы даже в этом паршивом лагере почувствовали себя, как в раю. Но тут он вдруг остановился и сказал:
- Дайте мне на голову соломенную шляпу - не могу и двух нот взять без шляпы.
Тут все, конечно, поняли, что он не морочит нам голову. Побежали к караульным и стали умолять их ради бога скорее послать за соломенной шляпой в Париж, потому что этот парень действительно умеет играть на тромбоне, на что караульные сказали - ладно они сами слышали, как он играет, и поэтому сделают все, что в их силах.
После этого случая никто больше не приставал к Уинстенли чтобы тот сыграл на тромбоне без соломенной шляпы, потому что люди испытывают прямо-таки благоговейный трепет перед человеком, который умеет управляться с трубой, в особенности - с тромбоном, и извлекать из нее музыкальные звуки. Все и прежде весьма уважали Уинстенли за то, что он протащил свой тромбон через всю войну, чуть ли не весь свет с ним объехал, а после того как он немного поиграл и люди поняли, что он не обманывает, все решили, что он человек необыкновенный, совсем особенный и поэтому достать ему соломенную шляпу просто необходимо.
Кое-кому из ребят Уинстенли показал свою фотографию, когда ему было девять лет. Он прижимал к губам тромбон, на голове у него была соломенная шляпа.
- Я никогда не играл без соломенной шляпы, - сказал он.
Песня, которую Уинстенли начал играть в тот вечер, была "Вам не узнать, как я по вас тоскую", - и, черт возьми, как это было прекрасно - ну просто что-то неземное! Он продолжал и дальше: "Вам не узнать, как нежно вас люблю" - все с той же легкостью, хватая за душу, но тут вдруг остановился - и ни с места.
Вместо того чтобы на него рассердиться, счесть его дураком или ломакой, все прониклись к нему симпатией. Все наперебой старались его утешить и говорили: "Ладно, Джонни, будет у тебя шляпа - то-то ты заиграешь". Все понимали, что ему не терпится поиграть на тромбоне, но что он слишком серьезный музыкант, чтобы позволить себе играть плохо.
А дни и ночи тянулись по-прежнему, группы составлялись и распадались, перестраивались и менялись, из старых выходили, создавали новые. Но у каждого на душе было что-то свое, что ни под какие группы не подходило.
И все знали, что есть такой Джон Уинстенли со своим тромбоном. Все слышали о песне, которую он заиграл и бросил, и всем хотелось, чтобы он доиграл ее до конца, но никто не требовал, чтобы он играл кое-как.
И вот однажды какой-то караульный сказал одному из наших ребят, знавшему по-немецки, что, по дошедшим до него слухам, другой караульный возвращается из Парижа, где проводил свой отпуск, и везет с собой соломенную шляпу.
Тут все, конечно, обрадовались и поторопились сообщить новость Уинстенли.
- Когда он приедет? - спросил Уинстенли.
- Со дня на день, - сказал кто-то. - Вот только будет ли она тебе впору?
- Должна подойти, - сказал Уинстенли. - Была бы соломенная да влезла бы на голову, а там и ладно.
Вот так наряду со всякими другими ожиданиями - ожиданием, что война кончится, ожиданием, что лагерь захватят американцы, ожиданием, что нас переведут в какое- нибудь место, где мы сможем получать письма, - мы стали ждать прибытия шляпы для Уинстенли.
Ждать так ждать, и, когда ждешь чего-то важного, ничего не стоит подождать заодно и чего-нибудь менее значительного.
Наконец караульный, побывавший в Париже, вернулся и действительно привез соломенную шляпу. Он сказал, что хочет вручить ее Уинстенли лично. Он прошел за изгородь, и наши ребята, говорившие по-немецки, проводили его к Уинстенли, который, как всегда, сидел на футляре с тромбоном. Когда он прогуливался, он таскал футляр с собой. Он всегда брал его с собой, куда бы ни отправился. Ну, Уинстенли во все глаза уставился на немца, побывавшего в Париже, потому что тот держал в руках пакет, а в пакете, возможно, была соломенная шляпа.
Переводчик сказал Уинстенли:
- Он привез тебе соломенную шляпу из Парижа. Его зовут Тротт фон Эссен.
- Спроси его, - говорит Уинстенли, могу я взять себе эту шляпу? Я ему заплачу, что она стоит, и прибавлю что-нибудь за беспокойство.
Переводчик поговорил с Троттом и потом сказал Уинстенли:
- Он говорит, для него это одно удовольствие, - ты можешь взять себе шляпу, он будет очень рад.
- Спроси его, - говорит Уинстенли, - какую песню ему сыграть, потому что первая песня будет для него за то, что он привез мне шляпу.
Тут переводчик опять поговорил с Троттом и потом сказал Уинстенли:
- Он говорит, чтобы ты доиграл ту песню, которую начал две недели тому назад.
Скажи ему, - говорит Уинстенли, - по рукам, давайте поглядим на шляпу.
Переводчик сказал что-то Тротту, Тротт порвал тесемку на пакете и вынул совершенно новую соломенную шляпу с красной лентой и пучком красных, зеленых и лиловых перьев, заткнутых за ленту.
Тротт передал шляпу Уинстенли, и тот долго держал ее в руках и все только смотрел на нее.
Потом он надел ее на голову.
Шляпа была ему очень к лицу. Он вдруг стал походить на штатского.
Наконец Уинстенли медленно открыл футляр, собрал тромбон и несколько раз подвигал взад и вперед кулису. Потом он заиграл эту песню, как никто никогда не играл ее раньше. Это было необыкновенно, изумительно! Он сыграл эту песню три раза подряд, каждый раз лучше прежнего.
Уинстенли изголодался по музыке, его не приходилось просить, ему самому не терпелось, и он играл. Ничего чудеснее на войне я не слышал. Тротт фон Эссен так возгордился своим участием в этом событии, что едва снисходил до разговора с переводчиками.
Каждому хотелось послушать свою любимую песню, и Уинстенли обещал сыграть все, одну за другой, а что не успеет сыграть сегодня, то сыграет завтра. Если вы можете напеть или насвистать мелодию, говорил он, он подберет ее и сыграет для вас на тромбоне. Ему все равно, какая мелодия и слышал ли он ее раньше, вы только напойте или просвистите ее - и он сыграет. Он сказал переводчику, чтобы тот спросил у Тротта, не хочет ли он послушать еще что-нибудь, и Тротт, подумав минутку, припомнил одну вещь, но не знал, как она называется. Он слышал, как кто-то из наших ребят пел ее как-то ночью, и она ему понравилась. Уинстенли попросил Тротта напеть или просвистеть ему эту песню.
Тротт напел несколько тактов, и Унистенли улыбнулся и сказал:
- Черт возьми, да ведь это "Голубые глаза"! Я тоже очень люблю эту песню.
Уинстенли сыграл "Голубые глаза", и как ни хорошо исполнил первую вещь, но эту - еще лучше. Немец был страшно горд и доволен. Он спросил у переводчика, о чем говорится в песне, и переводчик ему объяснил. Тогда он попросил переводчика научить его словам "голубые глаза" по- английски, переводчик показал ему, как их выговаривать, и он ушел, все время повторяя вслух эти два слова.
После "Голубых глаз" Уннстенли сыграл "О, лунный свет в волне речной играет, и запах трав исходит от лугов", - и черт меня побери, если у каждого из нас не выступили слезы на глазах - все стали сморкаться и выражать свое удивление, как это может столько красоты исходить из какого-то жалкого, погнутого куска водопроводной трубы, который у Джона Уинстенли называется тромбоном.
Не знаю, за что сражаются ребята в американской армии или хотя бы думают, что сражаются, - я никого из них об этом не спрашивал, - но мне кажется, я знаю, что все они любят, - все до последнего, кто бы они ни были и к какой бы группе ни принадлежали: любят они правду и красоту. Они любят ее, и нуждаются в ней, и стремятся к ней, и слезы выступают у них на глазах, когда они к ней приобщаются.
И они приобщились к ней, когда Джон Уинстенли из Цинциннати, штат Огайо, играл на тромбоне. Они приобщились к ней, когда этот великий американец, этот великий, мудрый человек надел соломенную шляпу и они услышали голос любви, красоты и правды.
Я не знаю, американская ли это черта или это что-то другое, но только нет, по-моему, на свете человека, способного устоять перед такой красотой и правдой, какая исходила из тромбона Уинстенли субботним вечером 22 июля 1944 года.