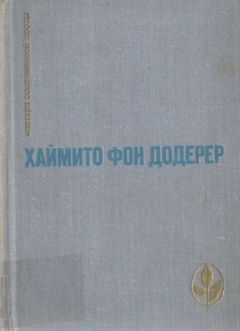Джуд Морган - Тень скорби
Очень скоро дочери уже с нежностью липнут к Энн, надувая губки от ревности.
Мистер Робинсон беспокоится об Эдмунде. Сплошные истерики и притворные боли в животе, что не к лицу уже довольно взрослому парню.
— Боюсь, вы нянчились с ним, мисс Бронте, и поэтому он такой недисциплинированный. Что же, теперь с этим покончено. Хорошее сильное мужское влияние направит его на путь истинный.
— Этого, — вздыхая, говорит миссис Робинсон, — действительно не хватает в доме.
Наступает как раз один из тех моментов, когда, будучи простой гувернанткой и служащей по найму, можно тихонько удалиться. Но Робинсоны ее не отпускают. Мисс Бронте, куда же вы? Надеюсь, мы не заставили вас почувствовать себя чужой. Они лишились быть зрителя.
— Эдмунду нужен воспитатель-мужчина, домашний учитель, — говорит мистер Робинсон, подходя к приставному столику с подносом и графином. За время болезни он приобрел компенсирующую энергичную манеру набрасываться на предметы, прилагая непропорциональную часть воли к маленьким физическим задачам. Наполнение стакана бренди теперь неуклюжее, шумное предприятие, заставляющее миссис Робинсон прикрыть глаза в выражении утонченной терпеливости. — Им должен заниматься мужчина, и — прошу прощения, мисс Бронте, — ему уже давно пора бы начать осваивать классику.
— Ах, сударь, я знаю латынь, если вы хотите, чтобы я обучала его этому, — говорит Энн.
Мистер Робинсон кривится, выпивает бренди.
— Латынь. О чем думал ваш отец?
— Сегодня вы превосходите самого себя в несносности, мистер Робинсон, — делает замечание его жена. — Если желаете вымещать на ком-то плохое настроение, то прошу, пусть это буду я, а не мисс Бронте. Видит Бог, я уже привыкла к этому.
Позже настает черед мистера Робинсона искать Энн, чтобы взывать и сознаваться, чтобы подушку его «я» кто-то взбил.
— Мисс Бронте, я вспылил ранее. Ваш здравый смысл, конечно, уже разгадал причину, и, надеюсь, вы простили меня. Меня обременяет множество забот — и эта проблема с Эдмундом досаднейшим образом отягощает ношу. Дело в том, что для мальчика его возраста естественно сопротивляться руководству женщин. А мне заполнить этот пробел не позволяет шаткость здоровья.
— Конечно, сударь. Я понимаю.
И она действительно понимает. Возможно, в этом ее беда. Видеть-то ей это не мешает.
— Даже не знаю, что предпринять. Мы здесь во многом отрезаны от общества, а потому вынуждены вести тихую жизнь. Конечно, для женщины это не имеет такого большого значения. Но мужчине трудно с этим смириться, тем более если это не отвечает его характеру. Вот такая проблема.
— Мой брат. — Энн высказывает тщательно обдуманное, со всех сторон взвешенное предложение. Выбор, к которому из двух супругов с этим предложением обратиться, тоже делался со всей осторожностью и пал в конце концов на миссис Робинсон, которая менее склонна увидеть в нем дерзость и которая, как она сама сетует, утомлена бесконечными переживаниями мистера Робинсона по этому поводу («Представляете, муж даже завел речь о том, чтобы отправить Эдмунда в школу», — чего она не может одобрить, поскольку ее мальчик слишком нервный и чувствительный…) — Он владеет классическими дисциплинами и уже работал домашним учителем. Что до легкости характера, здесь я, конечно, по-сестрински необъективна, но искренне считаю, что они с Эдмундом прекрасно поладят.
— Ваш брат… Что ж, это идея, мисс Бронте. Несомненно, обойдется без суеты, которая обычно возникает с появлением в доме совершенно незнакомого человека… Я посоветуюсь с мистером Робинсоном. Конечно, мы должны быть убеждены, что ваш брат полностью соответствует этой должности. Но я буду очень рада, моя дорогая мисс Бронте, если мы сможем принять такое удобное решение.
Энн кажется, что это решит достаточно много проблем. У Брэнуэлла появится работа и возможность находиться в высшей сфере общества, где ему, безусловно, и место. Это скрасит ее одиночество и поможет выносить Торп-Грин, пока они не откроют свою школу. Это будет хорошо для Эдмунда, а значит, и для всей семьи Робинсонов. А будучи очень плохим человеком, Энн отчаянно хочет сделать что-нибудь хорошее.
Завещание тетушки Брэнуэлл утверждено, и каждая из ее племянниц обнаруживает, что стала богаче на триста фунтов, которые вложены в акции железной дороги. Что ж, охотников за приданым можно не бояться, но для идеи со школой это незаменимая помощь.
Пора рождественских каникул, и все дети дома, когда Патрик, сверяясь с копией завещания — теперь для чтения ему приходится пользоваться увеличительным стеклом, — распределяет личные подарки в память о тетушке. Шарлотте — индийская корзина для рукоделия, Брэнуэллу — черный лакированный несессер, Эмили — веер из слоновой кости, Энн — часы и монокль…
— Остальное я должен разделить по своему усмотрению. Речь идет, насколько я понимаю, о разнообразных украшениях и тому подобном. Оставляю это на ваш выбор.
Брэнуэлл фыркает.
— Это низко. Почему ты не оставишь ничего для себя, папа?
— Нет, нет. Мне ничего не нужно, чтобы хранить память о праведной, принципиальной женщине, которая жила и умерла, как примерная христианка.
Но Патрику действительно ее не хватает. Когда внимания требует какой-нибудь важный вопрос — как сейчас, например, вопрос ключей от всех дверей дома, — ему не хватает неторопливого ритуала дискуссии за чашечкой чая. Раз или два в нем вспыхивает, словно полоса света, идущая от холодного солнца, нечто, в чем он с трудом распознает страх. Если она может уйти из его жизни, другие тоже могут. Перед ним даже мелькает такая возможность, и он тут же захлопывает перед ней двери, боясь, что в конце концов останется один.
Ключи от дома, да, Эмили с радостью берет себе. Теперь Марте, молодой дочке Джона Брауна, не придется выполнять всю работу по дому одной.
Эмили движется среди кухонной утвари и запасами погреба, между вещами, которые нужны в обиходе. В течение последних одиннадцати месяцев в ее крови звучало какое-то металлическое тиканье, но теперь, слава Богу, прекратилось. Сейчас она чувствует сущность этих вещей. Lares et penates. Древние боги, Дионис, Эрос — они могли добираться до твоей сути, входить в тебя, а почему эти не могут? Мука — приятная мягкость, хранящая память о твердых зернах, что пробивались к солнцу. Хворост для растопки, черный, колючий, ощетинившийся и напряженный, — уже огонь. Керамическая миска для смешивания: ее идеально вылепленная форма; она — как зимние рассветы с желтыми шлепками битых яиц и поцелуем печного жара на лице.
Мир, который окружает ее, по душе Эмили. Да, ей не хватает тетушки, но смерть есть смерть, а это жизнь. Когда долгое путешествие из Брюсселя в Хоуорт завершилось и она вышла из двуколки, жизнь ринулась в нее сквозь подошвы туфель; она даже на миг потеряла равновесие и посмотрела на Шарлотту, словно та тоже должна была это почувствовать. В Кроухилле когда-то прорвало болото и получилось что-то вроде землетрясения, а тут наоборот: землеустановление.
Ее чемодан не распакован, и это тоже хорошо. Ее комнатой станет бывший детский кабинет. Узкая кровать, нет камина — не имеет значения. Пес Сторож, кот Тигр: она чувствует их кожей, чувствует их решительную силу, шикарные потягивания, даже когда склоняется над шкатулкой для письма. Путешествие за границу, Брюссель, пансион Хегер — это было чем-то, что она делала, потому что должна была делать. И уже сделала. Теперь можно сосредоточиться на важном, на настоящем. Шкатулка для письма открыта, взгляд устремлен далеко, в Гондал.
Суровая декабрьская погода, но все четверо решились на послеобеденную прогулку по тропинке к вересковым пустошам. Укутанные в капюшоны и перчатки, стряхивающие с себя комнатную чопорность.
— Встреча вод, — говорит Брэнуэлл. — Что скажете? Дойдете? Кажется уместным, знаете ли, перед расхождением путей.
Он полон энергии. Пришло письмо, подтверждающее его назначение на должность гувернера Эдмунда Робинсона в Торп-Грине. Он отправится туда вместе с Энн после каникул, так что все будут устроены.
— Я уж точно дойду, причем быстрее тебя, — заявляет длинноногая Эмили, обгоняя брата.
— Подожди, не бросай нас! — кричит Энн. — Будет туман, нам нельзя разделяться.
— Для тумана слишком ветрено, — замечает Шарлотта. — У тебя синдром гувернантки: чувствуешь себя отчаянно ответственной за все на свете. Я помню это.
На встрече вод ледяные ручейки, сверкающие и холодные, сходятся вместе и смешиваются. Энн думает: «Это синдром гувернантки или просто таково мое истинное “я”?» «Я, — думает Брэнуэлл, — скоро начну все заново, и, возможно, это станет истинным началом. И если я подспудно время от времени испытываю страх, то вполне естественно так себя чувствовать». «Чувствовать себя такой энергичной и живой, — думает Шарлотта, — весьма странно, но, быть может, не стоит этого опасаться, ибо месье и мадам Хегер не скупятся на похвалы и говорят, что нам нужно вернуться». «Вернуться, да, я знала, что ей придется вернуться, — думает Эмили, — я помню, как Шарлотта говорила, что если она кому-то нравится, то не может не ответить взаимностью. Опасность, в этом кроется опасность, Шарлотта. Необходимо ни в ком не испытывать необходимости». «Необходимости рассказывать о том, что было, нет никакой. Там я буду просто мистером Бронте, домашним учителем, — рассуждает Брэнуэлл. — Вот только бы удалось избавиться от этого комка страха, страха перед самим собой… Ну же, если малышка Энн способна на это, то… Или посмотри на Шарлотту, которая готовится ехать в Бельгию в полном одиночестве». «В одиночестве, думаю, заключается беда Брэнуэлла. Он плохо переносит одиночество, а та работа на железной дороге была ужасно изолированной. Но если я буду с ним в Торп-Грине, это наверняка все изменит… Надеюсь, во мне говорят не гордость и не тщеславие. В конце концов, я знаю, что Брэнуэлл не воспринимает меня серьезно». «Одиночество, слава Богу, я буду вольна находиться в одиночестве, гулять, не спать, писать и думать — и никакого проклятого дортуара, никаких людей, тупых и любопытных, которые тычут пальцами тебе в голову». «Одиночество, но я не буду одинокой, там будут месье и мадам Хегер. Вспомни Дьюсбери-Мур: там я была по-настоящему одна. Боюсь, я плохо переношу одиночество, но неужели я всегда буду одинока?»