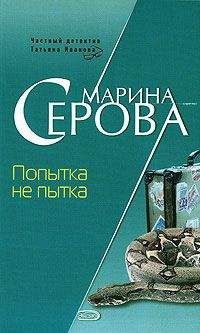Квинси Де - Исповедь англичанина, любителя опиума
Я не часто плачу, ибо прежде всего мысли мои обо всем, что занимает людей, ежедневно и ежечасно погружаются на ту глубину, где "места нет слезам" {54}; да и сама строгость моего образа мысли противоречит чувствам, вызывающим у нас слезы. (Сих чувств не хватает тем, кто легкомыслием своим огражден от печальной задумчивости, а тем самым - и от умения преодолевать волнение этих чувств.) К тому же те, кто размышляли о сих предметах так глубоко, как я с самых ранних лет, дабы избежать полного уныния, поддерживают и лелеют в себе успокоительную веру в грядущее равновесие и в гиероглифическое значение людских страданий {55}. Поэтому я и по сей день весел и бодр и, как уже говорил, не часто плачу. Однако есть переживания пусть не столь страстные и глубокие, но зато более нежные. Так, проходя по освещенной тусклым светом фонарей Оксфорд-стрит и внимая знакомой мелодии шарманки, что много лет назад утешала меня и дорогую мою спутницу (я буду всегда называть ее так), я проливаю слезы и размышляю о таинственной воле, столь внезапно и жестоко разлучившей нас навсегда. Как случилось это читатель узнает из последних страниц моего вводного повествования.
Вскоре после описанного происшествия я повстречал на Облмарл-стрит {56} одного господина, состоявшего при дворе его покойного величества. Сей джентльмен не раз пользовался гостеприимством в нашем доме и теперь обратился ко мне, заметив фамильное сходство. Я не старался скрыть, кто я таков, и потому откровенно отвечал на все вопросы. Взяв с него слово чести, что он не выдаст меня опекунам, я сообщил ему адрес стряпчего, с которым свел знакомство. На другой день я получил от своего нового покровителя билет в 10 фунтов; конверт с деньгами был доставлен в контору стряпчего вместе с прочими его деловыми бумагами и вручен мне незамедлительно и со всею учтивостью, хотя я видел, что он догадывается о содержимом послания.
Подарок этот, сослуживший мне вполне определенную службу, побуждает меня рассказать о цели, которая привела меня в Лондон и о которой я (говоря судебным языком) ходатайствовал со дня приезда в столицу до конца моего пребывания.
Читателя, пожалуй, удивит, что, оказавшись в столь могущественном мире Лондона, не в силах был я сыскать средств, дабы избежать крайней нужды, ведь предо мною открывались, во всяком случае, две к тому возможности: либо воспользоваться помощью друзей моей семьи, либо же обращать в доход свои юношеские знания и таланты. Касательно первой возможности скажу: более всего на свете я в то время опасался вновь оказаться в руках опекунов, ибо не сомневался, что всю власть, предоставленную им законом, они используют предельно, то есть насильственно упрячут меня в колледж, который я покинул. Такое водворение было бы для меня бесчестьем, даже если бы я добровольно ему подчинился, но, осуществленное насильственно, с вызывающим презрением к моим желаниям и усилиям, оно было бы для меня унижением паче смерти и в конце концов привело бы к ней. Потому-то из страха навести на свой след опекунов я был столь сдержан в поиске покровительства даже там, где несомненно обрел бы его. У отца моего в свое время было немало друзей в столице - однако, поскольку после смерти его минуло десять лет, я помнил немногих из них даже по имени; впервые оказавшись в Лондоне, если не считать несколько часов, там проведенных ранее, я не знал адреса и этих друзей отца. К этому способу получить помощь я не обратился отчасти из-за указанной трудности, но главным образом из страха, о котором я уже говорил. Что же до иной возможности прокормиться, то я, пожалуй, отчасти разделяю недоумение читателя: как же я мог проглядеть ее? Без сомнения, я бы добыл себе средств на скромную жизнь, если бы, например, нанялся в типографию читать корректуру греческих книг. Такую работу я мог бы выполнять с безупречною аккуратностью и тщанием и быстро снискал бы доверие хозяев. Однако не следует забывать, что получить такое место можно только по рекомендации какому-либо почтенному издателю - я же не имел такой надежды. Но, по правде говоря, мне никогда не приходило в голову, что можно извлекать прибыль из своих литературных знаний. Я не видел иного способа быстро достать деньги, кроме как брать взаймы, полагаясь на будущий достаток. С подобным предложением обращался я повсюду, пока наконец не повстречал еврея по имени Д. {Кстати, спустя восемнадцать месяцев я вновь обратился к нему по тому же вопросу; теперь я уже был студентом весьма почитаемого колледжа и мне повезло куда более - к предложениям моим наконец отнеслись всерьез. То, чего желал я, определялось отнюдь не своеволием и не юношеским легкомыслием (коим прежде подчинялась моя натура), нет, причиною таких требований стала злобная мстительность моего опекуна, который, осознав всю тщетность своих попыток удержать меня от поступления в университет, решил на прощание проявить доброту, отказавшись предоставить мне хотя бы шиллинг сверх того годового содержания в 100 фунтов, что назначалось мне колледжем. Жить на означенную сумму едва ли представлялось возможным в то время - тем более для человека, который, хотя и презирал показное равнодушие к деньгам и не был склонен к дорогим удовольствиям, слишком, однако, доверял прислуге и не находил радости в мелочной экономии. Итак, вскоре я оказался весьма стеснен в средствах и наконец, после многотрудных объяснений с тем самым евреем (иные из наших бесед, имей я досуг пересказать их, позабавили бы читателя), я все же получил необходимую мне сумму на "известных" условиях, а именно обязавшись выплачивать этому лихоимцу семнадцать с половиной процентов ежегодно. Израиль со своей стороны любезно удержал из сих денег не более девяноста гиней, предназначенных для оплаты услуг некоего нотариуса (каких именно услуг, кому и когда оказанных - то ли во время осады Иерусалима при строительстве Второго Храма {57}, то ли при более близкой нам исторической оказии, - я так и не смог установить). Сколь много статей умещалось в предъявленном мне счете - уж и не упомню точно, но по-прежнему храню этот документ в шкатулке вместе с прочими природными диковинками; когда-нибудь, хочется верить, я предоставлю его в распоряжение Британского музея. (Примеч. автора.)}.
Я представился ему и прочим ростовщикам (некоторые из них, думается, также были евреями) и рассказал об ожидаемом наследстве; те, в свою очередь, передали отцовское завещание в суд по гражданским делам, который и признал законность моих притязаний. По всему выходило, что второй сын -, эсквайра, обладает правом нераздельного наследования (или даже более того), что я, собственно, и утверждал; однако оставался неразрешенным один вопрос, легко угадываемый в глазах ростовщиков: а был ли я в самом деле тем человеком, за которого выдавал себя? Прежде мне никогда бы не пришло в голову, что подобное подозрение вообще возможно; я опасался, как бы моим еврейским друзьям не довелось продвинуться в своих ревностных разысканиях слишком далеко и узнать обо мне куда больше, нежели требовалось, - ведь в таком случае они могли бы составить заговор с целью продать меня опекунам. Я был удивлен, что моя персона, materialiter {определяя ее физически (лат.).} (выражаюсь так, ибо питаю страсть к аккуратности логических разграничений), обвиняется или, по крайней мере, подозревается в подделке самой себя, formaliter {говоря юридически (лат.).}. И все же, дабы удовлетворить щепетильность евреев, я обратился к единственно возможному средству. Еще будучи в Уэльсе, получил я от друзей множество писем, которые теперь постоянно таскал с собою; это были последние остатки моего прежнего имущества, не считая одежды, что была на мне. Эти письма я и извлек на свет - в основном это были послания из Итона от графа - {58}, тогдашнего близкого моего товарища, и несколько писем маркиза -, его отца. Последний, сам в прошлом блестящий итонец, обладал большей ученостью, чем требуется знатному человеку. Он все же сохранил приязнь к классическим штудиям и не чуждался общения с ученой молодежью. Помню, мы стали переписываться, едва мне исполнилось пятнадцать; порой маркиз сообщал о тех великих усовершенствованиях, что сделал он или же намеревался сделать в графствах Ми Сл- , иной раз рассуждал о достоинствах какого-нибудь латинского поэта, а то предлагал мне темы, которые хотел бы видеть воплощенными в моих стихах.
Прочитав эти письма, один из евреев согласился ссудить мне две или три сотни фунтов при условии, что я уговорю молодого графа, который, кстати, был не старше меня, гарантировать уплату долга по наступлении совершеннолетия. Как я ныне понимаю, этот еврей рассчитывал не столько на пустяковую выгоду от сделки со мною, сколько на возможность впоследствии вести дела с моим знатным другом, ибо был прекрасно осведомлен об огромном наследстве, его ожидавшем. В соответствии с этим предложением через восемь или девять дней после того, как я получил десять фунтов, я стал приготовляться к поездке в Итон. Около трех фунтов денег пришлось оставить заимодавцу на покупку марок, необходимых, как уверял тот, для подготовки требуемых бумаг в мое отсутствие. В глубине души я чувствовал обман, но не желал давать повод обвинять меня в проволочках. Меньшую сумму назначил я другу своему, стряпчему (тому, что и свел меня с евреями), в уплату за постой в его не меблированном жилище. Пятнадцать шиллингов я употребил на восстановление (хоть и самое скромное) моего платья. От прочих денег четверть я дал Анне, полагая по возвращении разделить с нею все, что останется. Закончив дела свои, в седьмом часу, темным зимним вечером, сопровождаемый Анною, отправился я в сторону Пикадилли {60}, намереваясь добраться оттуда до Солт-Хилла {61} на почтовой карете, идущей в Бат {62} или Бристоль {63}. Путь наш лежал через ту часть города, коей более не существует, и потому теперь трудно даже приблизительно очертить ее границы, но, кажется, она некогда называлась Суоллоу-стрит {64}. Имея времени в достатке, мы свернули налево и, выйдя на Голден-сквер {65}, присели на углу Шеррард-стрит {66}, не желая прощаться среди суеты и блеска Пикадилли. Я заранее посвятил Анну в задуманное дело и вот вновь уверял, что, ежели повезет мне, разделит она мое счастье и, как только у меня появятся силы и средства защитить ее, я никогда не покину ее. Именно так я собирался поступить - как из привязанности к ней, так и по чувству долга, ибо независимо от благодарности, которая обязывала меня вечно чувствовать себя ее должником, я любил Анну, любил как сестру, а в ту минуту любил с семикратной нежностью, видя ее крайнюю печаль. Я, казалось, имел больше причин отчаиваться, ибо покидал теперь свою спасительницу, но я, несмотря на сильно поврежденное здоровье, был весел и полон надежд. Анна же, напротив, была в полном отчаянии от нашей разлуки, хотя я ничем не мог служить ей, кроме как искренней добротой и братским чувством; и когда, прощаясь, я поцеловал ее, она обвила мою шею руками и зарыдала, не в силах промолвить ни слова. Я думал воротиться не позднее чем через неделю, и мы условились, что Анна по прошествии пяти дней всякий вечер ровно в шесть часов станет ожидать меня в конце Грейт-Тичфилд-стрит {67} той тихой гавани, где обыкновенно назначали мы встречи, дабы не потерять друг друга в Средиземном море Оксфорд-стрит. Принял я также и другие меры предосторожности и лишь об одной позабыл. Анна никогда не называла мне своей фамилии, а, впрочем, я мог ее и не запомнить (как предмет не слишком большого интереса). К тому же девушки из простонародья, оказавшиеся в столь несчастливом положении, в отличие от претенциозных читательниц романов, не имеют привычки величать себя мисс Дуглас, мисс Монтегю и проч.; мы знаем их лишь по имени - Мери, Джейн, Френсис... Я должен был непременно спросить ее фамилию - тогда я наверняка мог бы разыскать ее. По правде говоря, мне и в голову не пришло, что встретиться после такой краткой разлуки нам будет труднее обыкновенного; и потому в ту минуту я и не подумал прибегнуть к таким расспросам и не записал об этом ничего в заметках о нашем последнем свидании. Ведь последние мгновения растратил я на то, чтоб хоть как-то обнадежить бедную подругу мою и уговорить ее добыть лекарство от донимавших ее кашля и хрипоты. Обо всем этом я вспомнил только тогда, когда уже не мог вернуть ее.