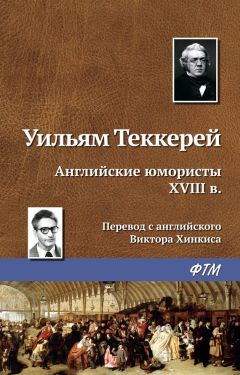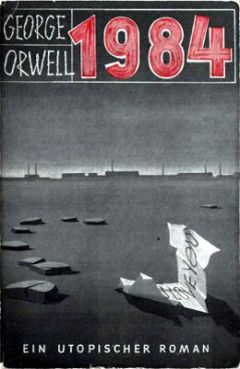Уильям Теккерей - Английские юмористы XVIII века
Его любила даже детвора.
Его улыбка, полная добра,
Отеческое счастье выражала;
Его - их огорченье огорчало,
Их радовала радость, их тревоги
Тревожили. Но думал он - о боге.
Он на утес высокий походил,
Который землю с небом породнил,
И хоть вся грудь в покрове черных туч,
Но на вершине вечно - ясный луч.
("Покинутая деревня")
***** "В мае этого (1768) года он потерял брата, достопочтенного Генри Гольдсмита, для которого ему не удалось добиться повышения в сане... равно как и прихода в Западном Килкенни со скромным вознаграждением в сорок фунтов в год, прославленного им в стихах. Говорили, что мистер Гольдсмит основал школу, которая долго переезжала с места на место, пока наконец не осталась в Лиссое. Здесь его таланты и трудолюбие прославили эту школу и под его руководством получили образование сыновья многих здешних мелкопоместных дворян. Когда в 1765 году среди мальчиков началась повальная лихорадка, они на время разъехались по домам, но он вновь собрал их в Атлоне и продолжал учительствовать там до самой смерти, которая постигла его, как и ого брата, на сорок пятом году жизни. Он был человеком прекрасной души и мягкого характера". - Прайор, "Гольдсмит".
В какие б ни поехал я края,
Ни шагу вслед за мной душа моя,
Она с тобой, о брат мой. И чем дале
Уйду я, тем прочнее нить печали.
("Путешественник")}
Оспа, которая в то время была бичом всей Европы и обезобразила лица у половины людей всего мира, коснулась лица бедняги Оливера, когда ему было восемь лет, и на всю жизнь изуродовала его. Какая-то старуха в отцовской деревне, учившая его грамоте, объявила, что он бестолков; потом он попал в руки учителя в школе для бедных, Падди Берна, а после Падди Берна его отдали священнику в Элфине. В те времена, когда ребенка отдавали в школу, принято было произносить классическую фразу, что его отдают "под линейку" мистеру такому-то. Бедные паши маленькие предки! Тяжко думать о том, как беспощадно вас секли, сколько напрасных ударов вам приходилось переносить, сколько слез проливать. О маленьком Нолле заботился главным образом дальний родственник, добрый дядюшка Контарин; мальчик окончил школу, усердно стараясь учиться как можно меньше: он воровал фрукты из чужих садов, играл в мяч, а когда у него в кармане заводилось хоть немного денег, швырял их на ветер. Всем известна знаменитая "Ночь ошибок", когда юный школяр, которому дали гинею и клячу, подъехал к "лучшему дому" в Арда, пригласил хозяина распить бутылку вина за ужином и велел подать утром на завтрак горячий пирог; а когда потребовал счет, то обнаружил, что "лучший дом" вовсе не постоялый двор, как он полагал, а принадлежит дворянину Фезерстоуну. Кто не знает всяких историй про Гольдсмита? Вот чудесная и необычайная картина - мальчик танцует и прыгает по кухне у себя дома, а старый скрипач насмехается над его уродством и называет его Эзопом, на что маленький Нолл остроумно откликается: "Громогласно герольды о том возвещают - танцует Эзоп, а ему обезьяна играет". Нетрудно представить себе странное и жалкое выражение трогательной насмешки на этом маленьком, усеянном оспинами лице, смешную танцующую фигурку, смешной ирландский акцент. В его жизни и в сочинениях, которые правдиво ее отражают, он постоянно сетует на это невзрачное лицо и фигуру; то и дело он горестно смотрится в зеркало и тотчас напускает на себя комическую важность. Он любит одеваться пышно и ярко. На экзамен перед посвящением в духовный сан он явился в алых панталонах и честно признался, что ему не улыбается стать священником, потому что он предпочитает яркую одежду. Решив заняться врачебной практикой, он правдами и неправдами раздобыл черный бархатный костюм, в котором пыжился, как индюк, прикрывая заплату на старом плаще шляпой; а когда дела его пошли в гору, он красовался в темно-фиолетовом одеянии, в синих шелках и в новехоньком бархате. За некоторые из этих роскошных нарядов наследники и правопреемники портного мистера Филби не получили денег и по сей день; быть может, добрый портной и его должник встретились и сочлись в царстве Аида *. В Дублине в колледже Троицы еще до недавнего времени показывали окно, на стекле которого было вырезано бриллиантом - "О. Гольдсмит". Кому же принадлежал этот бриллиант? Во всяком случае не молодому студенту, освобожденному от платы за обучение, занимавшему едва ли не последнее место в этой обители знания. Он был праздным, не имел ни гроша за душой и любил удовольствия **, он рано узнал дорогу в закладную лавку. Говорят, он сочинял баллады для уличных певцов, которые платили ему по кроне за балладу; и ему приятно было, выйдя украдкой ночью на улицу, слушать, как распевают его стихи. Наставник прибил его за то, что он устроил танцы в своей комнате, и он так близко к сердцу принял оплеуху, что собрал все свои вещи, снес в заклад книги и немногочисленные пожитки и исчез из колледжа, ничего не сообщив своим родственникам. Он говорил, что намеревался уехать в Америку, но через некоторое время юный мот, растратив все деньги, явился домой с повинной и эти добрые люди заклали тельца, хоть и не слишком тучного, и радушно встретили блудного сына.
{* "Когда Гольдсмит умер, половина неоплаченного счета от мистера Уильяма Филби (всего на сумму 79 ф.) приходилась за одежду для его племянника Ходсона". - Форстер, "Гольдсмит", стр. 520.
Поскольку его племянник Ходсон окончил свои дни (см. ту же страницу) "процветающим ирландским помещиком", можно надеяться, что он оплатил счет мистера Филби.
** "Бедняга! Он едва способен был отличить осла от мула, а индюка от гуся, разве только в жареном виде, на столе". - Камберленд, "Воспоминания".}
После колледжа он некоторое время слонялся без дела по родному дому, потом несколько лет на правах бедного родственника жил месяц то у одного, то у другого из родичей, год провел у некоего покровителя, много времени просиживал в пивной *. Когда такая жизнь ему надоела, было решено, что он поедет в Лондон и поступит учиться в Темпл; но он продвинулся по пути к Лондону и мешку с шерстью не дальше Дублина, проиграл там пятьдесят фунтов, которые были даны ему на обзаведение, и снова вернулся домой, ко всепрощающим родственникам. Затем он решил стать врачом и несколько лет прожил на средства дядюшки Контарина в Эдинбурге. Вслед за этим он ощутил настоятельную необходимость учиться у знаменитых профессоров Лейдена и Парижа и стал писать своему дядюшке забавные выспренние письма о великих Фаргейме, Дю Пти и Дюамеле Дю Монсо, чьи лекции намеревался слушать. Если дядюшка Контарин поверил этим письмам, если мать Оливера поверила россказням юноши о том, как он приехал в Корк, чтобы оттуда отплыть в Америку, уплатил за проезд и отправил свои вещи на борт, а неизвестный капитан отплыл, увезя бесценный багаж Оливера на своем корабле, не имевшем названия, и больше не вернулся; если дядюшка Контарин и мать, жившая в Баллимагоне, поверили ему, они, видно, были очень простодушны, и, право же, провел их очень простодушный обманщик. Когда этот малый, провалившись на экзамене по богословию, а затем не начав учиться на юриста, бросил все свои планы и своих родных и уехал в Эдинбург, он видел свою мать, и дядю, и ленивый Баллимагоп, и зеленую землю своей родины, и блестящую гладь реки в последний раз. Ему не суждено было больше увидеть старушку Ирландию, и он посещал ее вновь лишь в воображении.
{* "Эти юношеские глупости, как брожение вина, часто баламутят ум лишь для того, чтобы в будущем его очистить: жизнь, проведенная в апатии, похожа на вино, которое никогда не бродит и поэтому всегда мутное". - Гольдсмит, "Биография Вольтера".
"Он (Джонсон) писал: "Гольдсмит был цветком, который поздно расцвел. Когда он был молод, в нем не видели ничего примечательного". - Босуэлл.}
Но мне услады эти не даны:
Я шел в тревогах в дни моей весны,
Ища Добро, чья быстрая зарница
Мелькает впереди иль только снится.
Добро - как горизонт, зовет: дойди,
А чуть дойдешь - оно уж впереди,
И вновь иди. Моя судьба - бездомным
Скитальцем пребывать в миру огромном.
В предыдущей лекции я говорил о том удивительном мужестве, благодаря которому Фильдинг, несмотря на болезнь, душевные терзания и бедность, никогда не терял бодрости духа и сохранил в неприкосновенности свою смелую доброжелательность и правдолюбие, словно эти сокровища были доверены ему на всеобщее благо и он в ответе перед потомством за их достойное использование; и мне кажется, столь же славное и прекрасное постоянство проявлял Гольдсмит, чья нежная и отзывчивая душа была неизменно преисполнена доброты среди жизненных бурь, ураганов и ненастий *. Как бы ни был сам он одинок, он всегда готов был оказать дружескую помощь всякому; в какой бы нужде и несчастье он ни оказывался, он готов был поделиться последней коркой хлеба и ободрить сочувственным словом. Если бы у него осталась только его флейта, он отдал бы и ее, чтобы позабавить детишек в каком-нибудь унылом лондонском дворе. Он мог отдать свой уголь в том странном ведерке, о каких мы знаем из книг, бедняку соседу, мог отдать одеяла, под которыми спал в колледже, бедной вдове и согреваться кое-как под всяким тряпьем; он мог заложить последнюю одежду, чтобы спасти своего квартирного хозяина от тюрьмы; когда он работал младшим учителем в школе, то тратил свой заработок на сласти для мальчиков, и добрая жена директора справедливо решила хранить у себя деньги мистера Гольдсмита, как хранила деньги школьников. Когда позднее доктор встречал своих бывших учеников, он не отпускал их, пока не угостит, как бывало. "Вы видели мой портрет работы сэра Джошуа Рейнольдса? - спросил он у одного из своих бывших учеников. - Нет? Так вы не купили его? Честное слово, Джек, если бы напечатали ваш портрет, не прошло бы и получаса, как он был бы у меня". Его кошелек и его сердце были открыты для всех и принадлежали его друзьям, как ему самому. Когда он был в зените славы и граф Нортумберлендский, отправляясь в Ирландию в качестве лорда-наместника, спросил у доктора Гольдсмита, не может ли он быть ему полезен, Гольдсмит рекомендовал этому вельможе не себя, а своего брата. "Мои покровители, отважно заявил он, - книготорговцы, и других я не желаю" **. Это было тяжкое покровительство, и работать ему приходилось тяжко, но он не очень жаловался; если в ранних произведениях у него порой и вырывалось слово горечи, какой-нибудь намек на небрежение и бедность, то при переиздании он вычеркивал эти места, и, казалось, для него наступали лучшие дни; он и не думал жаловаться, что издатели не ценят его по достоинству или платят ему как нищему. Королевский двор отворачивался от честного Оливера, двор покровительствовал Битти; мода не озарила его своими лучами - мода была увлечена Стерном ***. Мода провозгласила Келли величайшим комедиографом своего времени. И если в нем - не озлобленно, а скорее жалобно - порой говорила уязвленная гордость, то от этого он отнюдь не утрачивал своего очарования. Автор "Векфильдского священника" имел право протествовать, когда Ньюбери продержал его рукопись два года; имел право немного побрюзжать на Стерна; немного рассердиться, когда актеры Колмена отказались играть в его великолепной комедии, когда импрессарио не пожелал заказать для нее декорации и отверг пьесу еще до первого чтения. Изысканная публика его не поддерживала; но за него были благородный Джонсон, великолепный Рейнольде, великий Гиббон, великий Берк и великий Фокс - поистине прославленные друзья и поклонники, не менее знаменитые, чем те, которые за пятьдесят лет перед этим сидели за столом Попа.