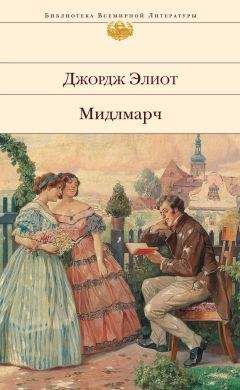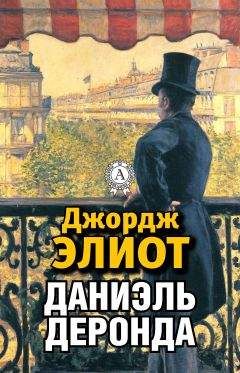Хуан Валера - Иллюзии Доктора Фаустино
Пассивность доктора была следствием того угнетенного состояния, в котором он постоянно пребывал, но если бы он был опытным соблазнителем и хотел завоевать сердце Констансии, то более хитрый и действенный прием трудно было придумать.
Тысячи знаков внимания, которыми Констансия продолжала одаривать кузена, были полны туманных намеков, они создавали какую-то особую, неопределенно поэтическую атмосферу. Так поступают даже глупые женщины, если ими движет стремление завоевать чью-нибудь любовь. В данном же случае так поступала маркиза де Гуадальбарбо, женщина умная, изящная, артистичная. Это получалось у нее прелестно. Доктор не смел, конечно, думать, что кузина любит его, но вспоминая любовные свидания у садовой решетки во всех подробностях, он понял, что продолжает любить Кон станси ю, несмотря» а любовь к Марии.
Это новое душевное состояние дона Фаустино не прошло незамеченным: маркиза видела, с какой нежностью кузен смотрит на нее, как благодарно выслушивает ее похвалы. Ощущая на каждом шагу ее заботливое отношение, доктор преисполнялся чувством признательности и сам старался оказывать ей всяческие мелкие услуги. Для человека рассеянного, каким был доктор, такое его поведение было равносильно признанию в любви.
Прокорпев часов пять-шесть над бумагами в присутствии и еще столько же в своей гостиничной комнатенке над завершением поэмы и сочинением новой философской системы и попадая после этого в роскошный, элегантный салон маркизы, доктор чувствовал себя там как в раю: слуги относились к нему почтительно, чего он не видел с момента отъезда из Вильябермехи, его окружали красивые вещи, здесь все благоухало, и, самое главное, он видел прекрасную даму, которая интересовалась им, участливо справлялась о его здоровье, хотела слушать его стихи, философские рассуждения, и все это делала так умно, так тонко, что доктор при всей своей мнительности не замечал ни наигранности, ни фальши, ни обидной снисходительности.
Дон Фаустино испытывал такое блаженное чувство, ему было так хорошо и спокойно, что он боялся потерять это ощущение и был похож на больного, который нашел удобное положение и боится сдвинуться, чтобы не нарушить его, или на человека, который видит прекрасный сон, и даже проснувшись, старается удобней устроиться, чтобы увидеть его продолжение. Словом, доктор блаженствовал и готов был даже не дышать, чтобы не потерять этого чувства.
В один из приемных вечеров – это было в мае – генерал Перес вел себя особенно назойлива и дерзко. Он сетовал на то, что маркиза допускает его к себе только в дни общих приемов и не хочет встретиться с ним наедине.
– Я должен серьезно объясниться с вами, – сказал он маркизе, – это ужасно: вы вечно заняты гостями и под этим предлогом не удостаиваете меня своим вниманием. Вы даже не хотите выслушать меня. Всякий нахал прямо подходит к нам и обрывает меня на полуслове. Выслушайте меня и потом вынесете свой приговор. Это право каждого осужденного.
– Помилуйте, генерал, – отвечала Констансия, – я вас не осуждаю. Я слушаю вас, но не понимаю, на что вы жалуетесь.
– Вы обращаетесь со мной жестоко и смеетесь надо мной.
– Я и не думала смеяться над вами.
– Почему же вы не принимаете меня днем?
– Днем я принимаю только по вторникам. Приходите в любой вторник, и я вас приму.
– Вот именно: вы примете меня как любого другого.
– Какое же у вас право требовать, чтобы я принимала вас иначе?
– Неблагодарная! Разве моя любовь, моя дружба, мое восхищение вами не дают мне на это права?
– Может быть, поэтому я и должна вам отказать. Вы опасный человек, – смеясь, сказала Констансия.
– Видите, я прав. Вы смеетесь надо мной.
– Я не смеюсь над вами, но и принять вас не могу. Вы так настойчиво ухаживаете за мной, что это может вызвать всякие пересуды.
– Никто не посмеет ничего сказать. Примите меня хотя бы один раз. Ваша репутация так прочна, что вам нечего бояться.
– Послушайте, – сухо сказала Констансия, несколько задетая тем, что генерал всерьез мог подумать, будто она боится за свою репутацию. – Я прекрасно знаю, что моя репутация не может поколебаться от какого-то пустяка. Вы хотите меня видеть завтра, когда я не принимаю простых смертных? Извольте. Приходите завтра. От трех до четырех. Я велю слугам, чтобы вас впустили.
– Только меня одного?
– Только вас одного.
Сказав это, маркиза покинула генерала. Тот был доволен, хотя должен был бы сообразить, что маркиза дала согласие на свидание с целью доказать, что ее репутация не зависит от того, встретится она с ним наедине или не встретится.
Однако генерал Перес все понял по-своему и был безмерно горд. Мысленно он представлял себе ту жестокую борьбу между любовью и долгом, которая происходит в душе маркизы. То, что он получил согласие на свидание, казалось ему важной любовной победой. Мысль о том, что Констансии он был совершенно безразличен, не приходила ему в голову, напротив, он был уверен, что она горит от нетерпения встретиться с ним наедине и выслушать его признания.
И генерал пришел на свидание. Хотя с женщинами другого типа он не церемонился и вел себя как молодой Тарквиний с Лукрецией, в данном случае он понимал, с кем имеет дело, и, несмотря на свою заносчивость, вел себя с Констансией почтительно, скромно, искательно и покорно. Маркиза в изящных выражениях сказала все, что полагалось в таких случаях: что она высоко ценит генерала, испытывает к нему самые дружеские чувства, благодарит за оказанную честь, и тем не менее просит его ни на что не надеяться, так как не может его полюбить.
Отказ был сделан яснее ясного. Но тщеславие генерала не допускало этого. Он по-прежнему рисовал в своем воображении жестокие сражения между честью и долгом, любовью и целомудрием, развернувшиеся в душе Констансии. Он даже сострадал ей за тот переполох чувств, который царил в ее сердце, и в приступе благородства решил быть спокойным, осмотрительным, не кидаться очертя голову на штурм, не рубить сплеча, не предавать огню все и вся. Он принудил себя быть великодушным и милосердным, мягким, как глина, и нежным, как сироп, с тем, чтобы ежедневным деликатным нажимом одолеть Констансию.
В общем, маркизе не удалось отделаться от докучливых визитов генерала. Они раздражали ее. Гордость не позволяла ей прямо сказать генералу, чтобы он не компрометировал ее столь частыми посещениями, и не хватало духу дать понять, что они ей досаждают. С другой стороны, кузен все больше и больше завладевал ее сердцем.
Однажды после ужина, когда маркиз был занят Другими гостями, разговаривал с ними о политике, между Констансией и доктором произошел следующий разговор:
– Неужели ты считаешь меня такой легкомысленной и тщеславной и такого дурного мнения обо мне, что мог подумать, будто мне доставляют удовольствие ухаживания генерала? К чему мне эти ухаживания? Зачем мне нужен этот генерал? Тысячу раз я говорила тебе, что он мне надоел, что я не могу выносить его присутствия, а ты мне не веришь!
– Скажу тебе откровенно, кузина, – отвечал доктор, – хотя и знаю, что ты будешь сердиться: я не заметил, чтобы ты обходилась с ним сурово. Он бывает у тебя почти ежедневно, не отходит от тебя, выставляет напоказ свое обожание. Это называется дурно с ним обращаться?!
– Внешне это выглядит так. Но он сам принимает уклончивость за благосклонность, отказ – за поощрение, яд – за бальзам. Право, иногда я не вижу иного средства отвадить его, как только выставить за дверь.
– Если бы хотела, то давно бы выставила, – возразил доктор.
– Очень хочу это сделать. Ты поможешь мне?
– С превеликим удовольствием. Буду счастлив оказать услугу моей прелестной кузине, которая так добра и так ласкова со мною.
– Договорились. Я очень благодарна тебе за дружеское участие, за бескорыстную дружбу. Как ты благороден, Фаустино! У тебя есть все основания сердиться на меня, но ты не помнишь зла.
– За что же мне сердиться? Когда я вспоминаю – вот уже в течение многих лет – наше расставание там, у решетки сада, я всегда думаю, что ты была тысячу раз права. Весь горький опыт моей жизни, моя незначительность, моя нищета, крушение моих планов полностью подтверждают благоразумие и прозорливость твоего отца. Действительно, было бы безумством соединить твою судьбу с моей. Я не жалуюсь. Напротив, я благодарен тебе и храню в моем сердце сладкое воспоминание о тех слезах, которые ты пролила из-за меня, йотом тончайшем аромате, который ощутили мои губы, запечатлевшие первый и последний поцелуй на твоем чистом челе. Но хватит об этом. Вернемся к делу. Чем я могу быть полезен? Приказывай.
– Могу ли я приказывать? Я умоляю тебя завтра прийти ко мне.
– В котором часу?
– Приходи в половине третьего. Только непременно.
Констансия назначила доктору прийти за полчаса до визита генерала.
Автор или рассказчик настоящей истории – как угодно – знает, что в этом месте повествования, как и в других местах, читатель должен был почувствовать досаду против нашего главного героя и осудить его за крайнее непостоянство: то он любит Марию, то Констансию, то обеих сразу, а однажды любил даже Роситу (правда, всего несколько дней). Но пусть бросит в него камень тот, у кого в реальной жизни было меньше любовных перемен, тот, кто с большим основанием шел бы на эти перемены. Кроме того, уже с самого начала рассказа читатель должен был понять, что мы не старались сделать из доктора образец добродетели и совершенства. Мы хотели на примере доктора Фаустино показать, как пагубно сказывается на уме и воле человека то, что обычно называют иллюзиями. Концепция эта сама по себе удобна, и состоит она в убеждении, что сами наши достоинства могут указать путь к достижению любой честолюбивой мечты, что в каждом из нас сидит в зародыше великий человек, а раз так, то без труда и усилий, без всяких волевых напряжений, только за счет природных свойств можно преодолеть все препятствия и покрыть себя славой.