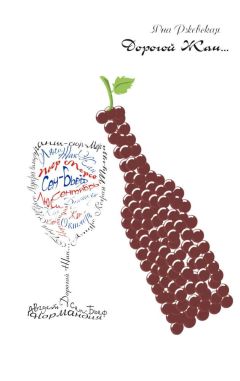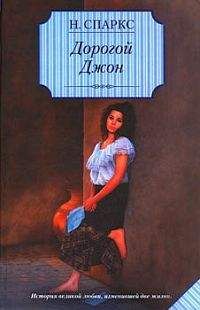Джон Голсуорси - Девушка ждёт
Она развернула бумагу и вынула старомодный, но очень красивый изумрудный кулон.
– Ах!
– Да, – сказала Джин, – вещь красивая. Можешь поторговаться. Пятьсот кто-нибудь даст наверняка. Изумруды сейчас в цене.
– Но почему бы тебе самой не заложить их перед отъездом?
Джин покачала головой.
– Нет, я не сделаю ничего, что может вызвать подозрение. Ты – другое дело, ведь ты не собираешься нарушать закон. А нам, может быть, придется, но мы не хотим, чтобы нас посадили.
– Знаешь, – сказала Динни, – рассказывай уж до конца.
Но Джин снова покачала головой.
– Незачем, да и невозможно; мы пока еще и сами толком, ничего не знаем. Но могу тебя успокоить – Хьюберта они не получат. Значит, ты возьмешь эту штуку?
И она завернула кулон.
Динни взяла пакетик; у нее не было с собой сумочки, и она сунула его себе в вырез платья.
– Обещай, что вы ничего не сделаете, пока не будут испробованы все обычные средства, – взволнованно сказала она, наклонившись к Джин.
Джин кивнула.
– Мы будем ждать до последней минуты. Да иначе и нельзя.
Динни схватила ее за руку.
– Мне не следовало втягивать тебя в эту историю, Джин; ведь это я вас свела.
– Я бы тебе не простила, если бы ты нас не свела. Я его люблю.
– Но все это для тебя так ужасно.
Джин поглядела вдаль, и Динни сразу увидела, как из-за угла выходит ее тигренок.
– Ничуть! Мне нравится, что это я должна его выручить. Мне еще никогда так интересно не жилось.
– Скажи, Алану это грозит чем-нибудь серьезным?
– Нет, если продумать все как следует. У нас несколько планов – все зависит от обстоятельств.
Динни вздохнула.
– Надеюсь, ни один из них не понадобится.
– Я тоже; но нельзя рисковать, когда имеешь дело с таким «законником», как Уолтер.
– Ну, до свиданья, Джин. Желаю удачи!
Они поцеловались, и Динни вышла на улицу; изумрудный кулон, казалось, жег ей грудь. Моросил дождь; она взяла такси. Отец и сэр Лоренс только что вернулись. Ничего существенного они не узнали. Как выяснилось, Хьюберт не хотел, чтобы его взяли на поруки. «Тут не обошлось без Джин», – подумала Динни. Министр внутренних дел уехал в Шотландию и вернется не раньше парламентской сессии, которая откроется недели через две. Следовательно, и ордер на высылку не может быть подписан раньше. По мнению людей знающих, у них в запасе еще три недели. Вот за это время и надо сдвинуть горы. Да, но горы сдвинуть легче, чем добиться, чтобы «одна черта из закона пропала». Однако не зря ведь люди говорят о «протекции», о «закулисных интригах», о том, как им удалось «протолкнуть вопрос» и «уладить дельце по знакомству»; неужели все это выдумки? А может быть, есть какие-то магические средства, о которых они не знают?
Отец поцеловал ее и, удрученный, пошел к себе. Динни осталась одна с сэром Лоренсом. Даже он был мрачен как туча.
– Веселая мы с тобой пара, нечего сказать, – заметил он. – Мне иногда кажется, что слишком у нас уважают закон. А ведь на самом деле это очень грубый инструмент – он с такой же точностью определяет наказание за вину, с какой врач назначает лечение больному, которого видит в первый раз; а мы по каким-то таинственным причинам приписываем закону непогрешимость духа святого и прислушиваемся к нему как к гласу, вещающему с небес. Ведь в этой истории министр внутренних дел как раз и мог бы позволить себе отойти от буквы закона и быть человеком. Но не думаю, чтобы он на это пошел. И Бобби Феррар тоже не думает. Беда в том, что недавно какой-то идиот сдуру сказал, будто Уолтер – «сама принципиальность», и такая откровенная лесть вызвала у нашего министра, по словам Бобби, не тошноту, а головокружение – с тех пор он не отменил ни единого приговора. Я подумываю, не написать ли мне письмо в «Таймс»: «Позиция твердокаменной принципиальности, занимаемая ответственными лицами, опаснее для дела справедливости, чем методы чикагских гангстеров». Про гангстеров он поймет, – он, кажется, бывал в Чикаго. Ужасно, когда человек перестает быть человеком.
– Он женат?
– Теперь даже не женат.
– А правда, что есть люди, которые никогда и не были людьми?
– Это еще не самое страшное; тут по крайней мере знаешь, с кем имеешь дело, и можешь вооружиться кочергой. Куда опаснее болваны, у которых голова распухла от самомнения. Кстати, я сказал моему молодому человеку, что ты будешь ему позировать для миниатюры.
– Что ты, дядя, разве я могу позировать в таком настроении.
– Нет! Конечно, нет! Но ведь долго так продолжаться не может. – Сэр Лоренс посмотрел на нее испытующе и спросил – Кстати, а что Джин?
Динни взглянула на него широко раскрытыми невинными глазами.
– А что Джин?
– Ей ведь пальца в рот не клади…
– Да, но что она, бедняжка, может сделать?
– Не знаю, – сказал сэр Лоренс, вскинув бровь, – просто не знаю. «Эти миленькие крошки, вот как! Им бы крылышки, ну просто ангелочки, вот как!» Так писали в «Панче», когда тебя еще на свете не было, и будут писать, когда тебя не станет, вот только крылышки у вас отрастают уж очень быстро.
Динни и глазом не моргнула. «Дядя Лоренс – страшный человек», – подумала она и пошла спать.
Но разве заснешь, когда на душе так тревожно? И разве мало людей лежат сегодня ночью без сна? Казалось, в этой комнате скопилась безотчетная скорбь всего мира. Будь у нее талант, она бы села и излила душу в стихах об ангеле смерти. Увы, писать стихи не так просто. Лежи и мучайся, мучайся и злись – вот и все, на что ты способна. Она вспоминала себя в тринадцать лет, когда Хьюберт – ему не было еще и восемнадцати – ушел на войну. Это было ужасно, но сейчас куда хуже – почему? Тогда его могли убить каждую минуту; в тюрьме он в большей безопасности, чем те, кто на свободе. Его будут тщательно оберегать даже тогда, когда пошлют на край света, чтобы судьи с чужою кровью судили его в чужой стране. Да, еще несколько месяцев с ним ничего не случится. Почему же то, что произошло с ним сейчас, в ее глазах куда хуже, чем все опасности солдатской жизни или долгой, трудной экспедиции Халлорсена? Почему? Не потому ли, что на все прежние опасности и лишения он шел по доброй воле, а это испытание ему навязано силой? Его держат под замком, его лишили двух величайших благ человеческого существования – независимости и свободы личности, – двух благ, которых люди добивались тысячелетиями и ради них даже дошли до большевизма. Блага эти дороги каждому, но особенно таким, как они с братом, с детства не знавшим никакого насилия и признающим только один закон – закон своей совести. Ей казалось, что она тоже заперта в тесной камере, тоже ждет неизвестной участи, тоже томится, полная горечи и отчаяния. Что сделал он такого, чего не совершил бы на его месте всякий другой отзывчивый и горячий человек?
Глухой шум улицы, доносившийся к ней с Парк-Лейн, словно вторил ее тоскливым мыслям. Динни охватило такое беспокойство, что она не могла больше лежать в постели и, накинув халат, принялась бесшумно шагать из угла в угол; в открытое окно дул холодный октябрьский ветер, и она замерзла. А может, в браке все-таки есть какой-то смысл: чье-то плечо, к которому можно прижаться, а если станет невмоготу, то на нем и поплакать; ухо, в которое можно излить жалобы; руки, которые могут погладить тебя по голове. Но сознание своей бездеятельности мучило ее в этот час испытаний даже больше, чем одиночество. Она завидовала тем, кто, как отец или сэр Лоренс, может хотя бы ездить из одного места в другое и хлопотать; но особенно она завидовала Джин и Алану. Что бы они там ни делали, – все лучше, чем сидеть сложа руки, как она! Динни вынула изумрудный кулон и стала его разглядывать. По крайней мере на завтра у нее есть дело, и она живо представила себе, как, вертя в руке кулон, выманивает крупную сумму у какого-нибудь бессовестного старика, дающего деньги под заклад.
Положив кулон под подушку, словно его близость придавала ей мужества, она наконец заснула.
Наутро Динни встала рано. Ей пришла мысль, что, может быть, она успеет заложить кулон, получить деньги и отвезти их Джин прежде, чем та уедет. Она решила посоветоваться с Блором. В конце концов она знает его с пятилетнего возраста; он сам по себе – ходячая традиция и ни разу не выдал ее злодеяний, в которых она признавалась ему в детстве.
Динни обратилась к нему, как только он появился, неся кофейник тети.
– Блор!
– Да, мисс Динни.
– Будьте так добры, скажите мне по секрету, какой ломбард считается в Лондоне самым лучшим?
Дворецкий был удивлен, но, как всегда, невозмутим – в конце концов в наши дни кому угодно может понадобиться что-нибудь заложить. Он поставил на стол кофейник и задумался.
– Видите ли, мисс Динни, есть, конечно, и Аттенборо, но я слышал, что люди из общества обращаются к Фрюину на Саут-Молтон-стрит. Могу найти номер дома в телефонной книге. Говорят, это надежный человек и цену дает справедливую.