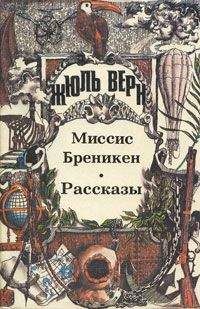Жюль Ренар - Дневник (1887-1910)
- Мы с Ренаром делаем одно дело: смешиваем комическое и трогательное. Пьесы надо писать просто, без нагромождений: уж кто-кто, а автор "Рыжика" не будет против этого возражать.
Капюс находит пьесу Франса в высшей степени оригинальной и относится к ней с величайшим почтением. Должно быть, он здорово проскучал на репетиции. Он не писатель. Его репутация создана лишь успехом, и даже деньги не сделали его богачом среди тех богачей, с которыми он водится.
1 апреля. Такие деревни, как Шомо или Шитри, лучшее доказательство того, что вселенная бессмысленна.
2 апреля. Выборы. Неприятное время. Боишься сделать шаг, поздороваться, пожать руку. Вид такой, словно вымаливаешь голос у избирателя. Каждая улыбка похожа на мольбу.
Избиратель чувствует себя хозяином. Он не совсем прав. Вы, дорогой мой, голосуете за себя, оказываете услугу самому себе, а не мне. Вы мой должник.
Это может привлекать профессиональных политиков, но противно человеку, у которого есть идеалы.
* Кюре рассказывает им скучнейшие небылицы и сулит райские кущи.
Мэру только и дорого что его шарф.
Учитель мог бы, но...
Кто же взглянет крестьянину прямо в глаза и скажет: "Ты спишь уже века. Проснись!"
8 апреля. Мама. Все-таки она женщина, которая была в свое время молода и которую местные дамы называли просто Роза.
* Мученица, быть может. Всю зиму они питались только кроликами, съели пятнадцать кроликов и ни кусочка другого мяса. На пятнадцатом он все еще утверждал, что крольчатина ему не надоела.
Он, конечно, мучает ее, как рабыню, однако называет при людях не без уважения "моя супружница".
Шестнадцать лет подряд она носит один и тот же корсаж.
Долгу у них всего тридцать франков, которые они уплатили за сало.
Она никогда не выходит из дому. Целый день работает у окошка, откуда открывается самый прелестный вид на свете.
18 апреля. Коолюс заходит в редакцию "Жиль Бласа".
- То, о чем я пишу, я не могу поместить нигде, кроме как у вас.
- Хорошо, хорошо! Приносите.
И он приносит статью о весне.
* Клочья лазури. Прожорливые облака вырывают их друг у друга.
19 апреля. "Юманите". Говорят, первый номер разошелся в количестве ста тридцати восьми тысяч экземпляров.
Сто тридцать восемь тысяч читателей прочли мою "Старуху". Атис мне говорит, что одна женщина, не глупее всех прочих из числа ста тридцати восьми тысяч, заявила ему:
- Я не поняла, что хочет сказать Жюль Ренар своей "Старухой". Кого он имеет в виду?
Она, должно быть, решила, что речь идет о Луизе Мишель. Вот и все, - а мне уже сорок лет!
* "Юманите". Жорес, Бриан, Эрр забрасывают меня комплиментами. Никогда еще меня так не принимали в редакциях. Социалисты хотят быть любезными. Я постеснялся сказать Эрру: "Ведь и вы написали хорошо". Мне кажется, что комплименты, которые доставляют мне удовольствие, другим не могут быть приятны. Если бы не это, я охотно бы их говорил.
Франс рассказывает, Мирбо смеется, Жорес слушает, поворачивая голову, смотрит то на одного, то на другого, Бриан весел. Не смею ничего сказать в присутствии этих людей, которые ведут Францию. Сколько знаменитостей в одной комнате! А ведь быть может, и я произвожу на них какое-то впечатление, и, быть может, любая моя шутка рассмешила бы их.
- Знатоки, - говорит Жорес, - предсказывают нашей газете хорошее будущее. Наш тираж сто сорок тысяч. Будет огромный срыв, но у нас большие возможности. При семидесяти тысячах газета покроет свои расходы.
Леон Блюм, деятельный, лихорадочный, похож на нимфу Эгерию. Смотрит на Жореса, который что-то начал писать, и говорит:
- Прекрасно.
Жорес, подойдя ко мне, благодарит, просит не медлить со следующим очерком. Мне кажется, что я вижу все это во сне. И вечно эта смешная боязнь отвечать комплиментами на комплименты.
28 апреля. В Шомо. Прежде всего, почему я решил уехать из Шомо? По трем причинам: административным, религиозным и моральным.
Необходима более тесная связь между мэром, советниками и избирателями. Избиратели не должны терять на другой день после выборов всякий интерес к тому, что происходит в мэрии. Центром должна быть школа. Хорошие дороги, гигиена, и все это - экономно, но без скаредности. Дело не в том, чтобы сказать: "Наша касса полна", - а в том, чтобы сказать: "Мы израсходовали деньги, но с пользой".
...Республика. Ей мы прежде всего обязаны всеобщим избирательным правом. Когда-то обвиняли республиканцев в том, что у них грязные руки; теперь их обвиняют в том, что они хотят предать все мечу и огню. Если они кричат: "Да здравствует всеобщий мир!" - их обвиняют в том, что они продались. Так как же наконец? У республиканца должно быть высокое представление о морали. Он хочет свободы для человека. Положить предел обогащению одних и помочь другим в их нищете.
10 мая. Маринетта растерянна. По ее словам, я похож на блаженного. Она плачет.
- Мне кажется, что ты перестал быть литератором.
- Я тот же, что и был, но вырос, стал шире.
Я ищу в ее глазах огонек, но он не зажигается.
- Столько усилий, и для чего? - продолжает она. - Эти люди не понимают тебя. Ставят себя выше. Какая нелепость!
- Ничто не пропадает. Я буду доволен, если хоть один из них сдвинется с мертвой точки. Если шевельнется в нем мысль. К тому же никогда не следует думать о результатах.
- Но ведь ты так рискуешь.
- Чем? Что меня будут оскорблять? Вызовут на дуэль? Но ведь если я не буду делать то, что должен делать, то умру от тоски, от отвращения.
- Вот, вот. Ты говоришь, как апостол. Кончится тем, что ты станешь святым.
- Ну и что же?
- Святым безбожником.
- Если такова моя судьба... Мысль у меня течет светло, как ручей, и ее не остановишь.
* Вишневые деревья. На каждой ветке перевязь из цветов.
* Сад. Почти слышно, как гудят новые ростки.
18 мая. Выборы. Может быть, только я один отношусь к ним серьезно.
8 июня. Стиль чистый, какою бывает вода, когда она светлеет, как бы постепенно стачиваясь о каменистое русло.
* В Париже я им рассказываю о выборах, о делах мэрии. "Неужто до того дошло? А мы думали, что ты это для смеху..."
* Беспроволочный телеграф. Согласен. Но куда же денутся наши очаровательные ласточки? Где же им сидеть?
11 июня. Я получаю на имя мэрии одни лишь проспекты фейерверков. Неужели они воображают, что мы только и делаем, что устраиваем празднества?
20 августа. Старуха пробует поднять вилами сноп люцерны и перекинуть себе на спину. Но не в силах. Она зовет Филиппа.
- Да вы надорветесь до смерти, - говорит он.
Она отвечает:
- Вот и хорошо!
Филипп не спорит, да и она не настаивает.
Он вскидывает вилы с люцерной ей на плечо.
- Подожди, дай передохнуть, - говорит она, ослабев.
Она подкладывает под вилы носовой платок. Теперь ее совсем не видно. Место старухи занял сноп люцерны, и он удаляется.
Кролики выглянут из ящика и увидят - о, Шекспир! - эту шагающую люцерну.
30 августа. Я потерял в своей жизни тысячу лет.
1 сентября. Почему я записал это? Почему сохранил записанное? Мысль ничем не примечательная, серая. Да, да, вспоминаю. Я написал эти строки, лежа в траве, и сохранил их потому, что они спасли жизнь перепелке.
6 сентября. Поэт Понж. Я не совсем уверен, что моя статья о нем ему понравилась.
Соседи говорят ему: "Господин Ренар пишет, что ты запрягаешь в плуг звезды. Что же это, он смеется над тобой?" Другие говорят: "У тебя будто бы пальцы запачканы в земле, когда ты пишешь. Что же это он тебя попрекает, что ты рук не моешь?" Третьи: "Ты говорил, что вы с господином Ренаром - друзья. А он тебя здорово отделал!.."
* Я подслушиваю у дверей, даже через замочную скважину, шумы жизни.
* Крестьянин. Вот простой человек. Присмотритесь к нему. Смотрите подольше... и через две недели, три недели, через десять лет напишите об этом человеке одну страницу... Во всем, что вы скажете о нем, быть может, не будет ни слова правды.
12 сентября. Каждая строчка в записной книжке должна быть сочной, как земляника.
19 сентября. С того дня как я узнал крестьянина, все буколики, даже мои собственные, мне кажутся ложью.
24 сентября. - И я думаю также о социализме, - говорю я Маринетте. Это увлекает. Я говорю: Нужно жить, писать, зарабатывать деньги для тебя, для Фантека и для Баи, но я не могу не думать о социализме. В нем - целый новый мир, и там надо не создавать себе положение, а отдавать всего себя.
- Вот этого, - говорит она, - я не понимаю.
- Чего "этого"?
- Когда ясно видят, что нужно делать, и не делают.
- Значит, - говорю я, - если тебя увлечет мысль стать сестрой милосердия, ты ею станешь?
- Конечно.
- А муж? А дети?
Она не отвечает потому, что плита раскалена и нужно жарить куропаток.
Баи сидит на буфете, я целую ее и говорю:
- Твоя мать сама не знает, что говорит.
- Нет, знает, - отвечает Баи, точно я назвал ее маму сумасшедшей.
Хотя я и не являюсь социалистом на практике, я убежден, что в этом была бы для меня настоящая жизнь. Если я не живу так, то это не от невежества, это от слабости. Здесь всё: ты, и дети, и наши буржуазные традиции, и привычки человека, для которого искусство все же профессия. У меня нет мужества порвать цепи. Если я не претендую на триста тысяч франков гонорара, как Капюс, я хочу иметь десять тысяч, пятнадцать тысяч. Если мне и наплевать на Академию, успех мне не безразличен. Если мне безразлична светская жизнь, у меня все же есть двое-трое друзей в Париже, с которыми мне приятно провести два-три вечера в неделю. Я не способен блистать в этой среде и никак не способен броситься вот таким, как я есть, в ту, другую среду. Вот и все.