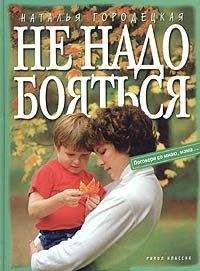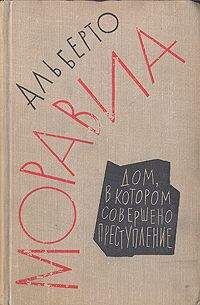Альберто Моравиа - Римские рассказы
- Я подошел первый, - заявляю я,
- Кто это сказал?
- Я сказал, - отвечаю я и швыряю ему в физиономию его куртку.
В это время подходит Иоле, усаживается как ни в чем не бывало и говорит:
- Спасибо, Луиджи.
Парень подобрал свою куртку, с минуту постоял в нерешительности, потом, поняв, что не может согнать с места иоле, пошел из купе, громко бросив в мою сторону:
- Старый дурак!
Поезд вскоре тронулся. Я стоял возле Йоле, ухватившись за поручни. Но настроение у меня было испорчено. Я бы охотно вылез и пошел домой. Эти два слова - "старый дурак" - настигли меня врасплох, когда я меньше всего ожидал этого. Я стоял и думал о том, что в слова "старый дурак" было вложено два разных смысла. Оскорбление заключалось в слове "дурак", но в этом как раз ничего страшного не было. Просто меня хотели обругать и поэтому назвали дураком. Но слово "старый" было произнесено не для того, чтобы меня оскорбить: он сказал "старый", просто констатируя факт. Если бы, предположим, мне было не пятьдесят лет, а шестнадцать, он с таким же успехом мог бы обозвать меня "безмозглым мальчишкой". Короче говоря, для него, так же как и для всех остальных, в том числе и для Йоле, я был стариком. И разве имело какое-нибудь значение то, что он считал меня дураком, а Йоле - умным? Может, не надо было даже занимать для нее место этот парень в конце концов все равно бы мне его уступил из уважения к моим годам.
Что я не ошибался, когда так думал, подтвердил сидевший напротив Йоле мужчина, который был свидетелем всей сцены. Он сказал:
- Мальчишка... Хоть бы из уважения к возрасту уступил.
Я как-то весь оцепенел и чувствовал себя растерянным.
Трогая лицо рукой, я пытался определить на ощупь, за отсутствием зеркала, насколько я стар. Йоле, разумеется, ни о чем не догадывалась. Когда мы проехали полпути, она сказала:
- Мне очень жаль, что вы стоите всю дорогу.
Я не мог удержаться, чтобы не ответить:
- Я, конечно, стар, но не настолько, чтобы мне было трудно постоять полчасика, - в тайной надежде, что она скажет: "Что вы, Луиджи, какой же вы старик?" Но эта дуреха ничего не ответила, и я окончательно убедился в том, что был прав.
На пляже в Остии Йоле разделась первая. Она вышла из кабины такая белотелая, свежая, упругая, молодая, что меня даже зло взяло. Купальный костюм на ней чуть не лопался. Потом в кабину вошел я. Прежде всего я бросился к висевшему на стене поломанному зеркалу. И правда, я совсем старик! Как это я раньше не замечал? Мутные глаза окружены морщинами, в волосах полно седины, кожа на щеках дряблая, зубы желтые. Мне стало стыдно, что на мне рубашка-апаш - совсем не по возрасту, из воротника выглядывала голая дряблая шея, вся в складках.
Я разделся. Когда я наклонился, чтобы надеть трусы, живот у меня пополз кверху, потом снова обвис, как пустой мешок. "Старый дурак", - со злостью твердил я про себя. Вот какие сюрпризы преподносит нам жизнь, размышлял я с горечью, - еще час назад я считал себя молодым - во всяком случае настолько, чтобы ухаживать за Йоле, - но оказалось достаточно каких-то двух слов, услышанных в поезде, чтобы я понял, что стар и гожусь ей в отцы. И мне стало совестно, что я так настойчиво глазел на нее в парикмахерской и что пригласил ее сюда. Что она обо мне думает? За кого меня считает?
А что она обо мне думала, я узнал позже. Мы держались за канат (море было неспокойное), и когда накатывалась волна, у меня перехватывало дыхание и я твердил себе: "Это потому, что я старый". А она, сияя от удовольствия, заявила:
- Знаете, Луиджи, я не думала, что вы такой спортсмен.
- Почему же? - спрашиваю. - Что же вы обо мне думали?
- Ну, обычно люди вашего возраста уже не любят плавать... Это занятие для молодых.
В этот момент на нас обрушилась высокая пенистая волна, я свалился прямо на Йоле и, чтобы удержаться, схватил ее за руку, - рука у нее была плотная, круглая, рука молодой девушки. Рот у меня был полон соленой воды.
- Я мог бы быть вашим отцом, - крикнул я ей.
А она, смеясь и барахтаясь в бурлящей пене, ответила:
- Отцом, положим, нет, а вот дядей...
В общем, когда мы вылезли из воды, я чувствовал такую неловкость, такой стыд, что у меня даже не было сил разговаривать. Мне казалось, будто во рту у меня защелкнулась какая-то пружинка и, чтобы разжать ее, надо просунуть между зубами железный ломик.
Йоле шла впереди, натягивая купальный костюм на грудь и на бедра - в мокром виде он стал просто неприличен. Потом она бросилась ничком на берег и стала валяться в песке. Тело у нее было такое гладкое, что песок к нему не прилипал, а отваливался мокрыми пластами. Я молча, съежившись, сел рядом, не в состоянии ни двигаться, ни разговаривать. Даже Йоле, при всей своей слоновьей толстокожести, должно быть, заметила, что мне не по себе, потому что вдруг спросила, как я себя чувствую.
- Я думал о вас, - сказал я. - Кто у нас в парикмахерской нравится вам больше всех - Амато, Джузеппе или я?
Она долго и добросовестно размышляла, потом ответила:
- Пожалуй, вы мне одинаково нравитесь все трое.
Я упорствовал:
- Но ведь Амато молодой.
- Да, - ответила она, - молодой
- По-моему, он в вас влюблен, - продолжал я после минутного молчания.
- Правда? - сказала она. - А я не замечала.
Она была рассеянна и явно чем-то озабочена. Наконец она заявила:
- Луиджи, у меня случилась беда - распоролся сзади купальник. Дайте мне полотенце, я пойду оденусь.
По правде говоря, я даже обрадовался. Я дал ей полотенце, она завернулась в него и побежала в кабину. Полчаса спустя мы уже сидели в поезде, в пустом купе. Я старался закрыть шею воротником рубашки-апаш и думал о том, что все кончено, что я совсем старик.
В тот день я дал себе слово, что не взгляну больше ни на Йоле, ни на других женщин. И я сдержал его. По-моему, Йоле была немного удивлена и иной раз смотрела на меня укоризненно. Впрочем, может быть, мне это только казалось.
Прошел месяц. За это время я разговаривал с ней самое большее четыре-пять раз. Между тем она особенно сдружилась с Джузеппе. Правда, он вел себя с ней по-отечески, без всякого намека на ухаживание, добродушно и серьезно. Я же больше чем когда-либо чувствовал себя стариком, стриг, брил, брал чаевые и не подавал голоса.
Однажды перед закрытием парикмахерской, когда я снимал халат в служебной комнате, хозяин - он у нас славный малый - сказал мне:
- Если вы не заняты, давайте поужинаем сегодня все вместе... Я плачу... Йоле обручилась с Джузеппе.
Я выглянул в зал: Йоле сидела в своем углу за маникюрным столиком и улыбалась. Джузеппе, в другом углу, вытирал бритву и тоже улыбался. И вдруг я почувствовал огромное облегчение: ведь Джузеппе старше меня, к тому же некрасив, и все же Йоле предпочла его, а не Амато! Я бросился к Джузеппе с распростертыми объятиями и закричал:
- Поздравляю, горячо поздравляю!
Потом я обнял Йоле и расцеловал ее в обе щеки. Словом, в парикмахерской из всех присутствовавших самым счастливым был я.
На следующий день было воскресенье. После обеда я вышел пройтись.
Гуляя, я поймал себя на том, что снова, как и раньше, разглядываю женщин и в лицо и со спины, не пропуская ни одной.
Катерина
Женился я восемнадцати лет. Мог ли я тогда предвидеть, что характер Катерины так изменится? Нет, все что угодно, только не это.
В то время Катерина была ничем не приметная девушка с гладкими, причесанными на прямой пробор волосами. Лицо у нее было правильное, но невыразительное, бесцветное, бледное. Вся ее красота заключалась в глазах больших, немного блеклых, но ласковых. Сложена она была не очень хорошо, но мне ее фигура нравилась: пышная грудь, широкие бедра, а руки, ноги, плечи хрупкие, как у девочки. Достоинство ее было не в красоте, а в кротости, и думаю, за эту кротость я и полюбил ее.
Тот кто не знал Катерину в те годы, не может даже себе представить, что это было за милое существо. Движения у нее были сдержанные, плавные, прямо любо смотреть. Ни резкого слова, ни неприветливого взгляда. Она всегда и во всем мне уступала, во всем на меня полагалась и, прежде чем сделать что-нибудь, бывало, обязательно взглянет на меня, словно спрашивая разрешения. Иногда меня это даже смущало. Порой я думал: нет, не заслуживаю я такой жены. Такая она была терпеливая, послушная, преданная. А как умела себя вести, какая была приветливая!
Кроткий нрав ее знали во всем нашем квартале. На базаре женщины говорили моей матери:
- Повезло твоему сыну... святую берет в жены.
Я даже порой желал, чтобы она была не такой кроткой. Я ее, бывало, в шутку спрашиваю:
- Катерина, неужели тебе никогда в жизни не случалось сказать грубое слово, сделать резкое движение? - Мне и впрямь иногда хотелось, чтобы она что-нибудь такое сказала или сделала.
После свадьбы мы поселились в том же доме, где жила моя мать, - в переулке Чинкуэ. Там наверху было несколько свободных мансард. Моя мать жила под нами, а в первом этаже помещался наш магазин хлебных и макаронных изделий, так что все мы жили и работали в одном доме. Первые два года Катерина была такой же кроткой, как в те дни, когда я с ней познакомился, а может быть, даже еще более кроткой, потому что она меня любила и была мне благодарна за то, что я на ней женился, дал ей дом и позаботился создать для нее лучшие условия. Она была кротка и со мной и с моей матерью и не менялась даже тогда, когда оставалась одна и никто не мог ее видеть. Иной раз возвращаюсь я из магазина около полудня домой и на цыпочках - прямо на кухню, посмотреть, как она там снует от плиты к столу. Я любил наблюдать, как она не спеша, плавно, мелкими шажками двигалась по тесной кухне, как она стряпала без суеты и недовольства, аккуратно, прилежно, молча. Казалось, будто она не в кухне за плитой, а в церкви перед алтарем. Тогда я неожиданно входил и обнимал ее, а она, поцеловав меня, улыбаясь говорила своим нежным, чуть жалобным голоском: - Ты так меня напутал!