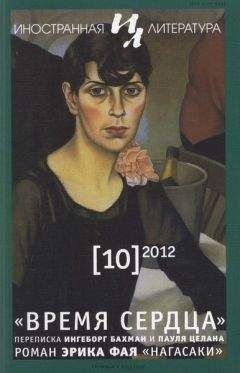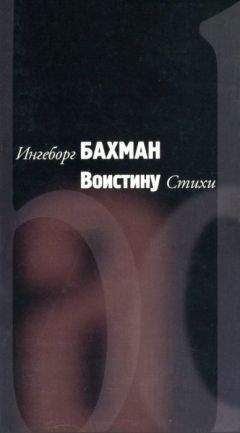Джордж Элиот - Мидлмарч: Картины провинциальной жизни
Для тех, кто смотрит на Рим взглядом, исполненным животворной силы знания, которое вдыхает пылающую душу во все памятники истории и прослеживает скрытые связи, объединяющие римские контрасты в стройное целое, Вечный Город, возможно, еще остается духовным центром и наставником мира. Но пусть они вообразят еще один контраст: колоссальные хаотические откровения столицы древней империи и папства – и девушка, которая воспитана в духе английского и швейцарского пуританства, с историей знакома только в ее худосочном протестантском истолковании, а в искусстве не пошла дальше расписывания вееров; девушка, чья пылкость преобразила ее скудные знания в принципы и подчинила этим принципам все ее действия, а чуткость и впечатлительность превращали самые абстрактные предметы в источник радости или страданий; девушка, которая совсем недавно стала женой и вдруг обнаружила, что восторженно предвкушавшийся новый неведомый долг вверг ее в бурный водоворот мыслей и чувств, связанных всего лишь с ее собственной судьбой. Грозная тяжесть непостижимого Рима не ложится бременем на пустенькие души веселых нимф, ибо они видят в нем просто фон для развлечений англо-иностранного общества, но у Доротеи не было такой защиты от глубоких впечатлений. Развалины и базилики, дворцы и каменные колоссы, ввергнутые в убогость настоящего, где все живое и дышащее словно погружено в трясину суеверий, отторгнутых от истинного благочестия, неясная, но жадная титаническая жизнь, глядящая и рвущаяся со стен и потолков, бесконечные ряды белых фигур, чьи мраморные глаза словно хранят смутный свет чуждого мира – все эти неисчислимые остатки надменных идеалов, и чувственных и духовных, беспорядочно перемешанные с неопровержимыми свидетельствами нынешнего забвения и упадка, сначала потрясли ее, словно удар электрического тока, а затем подавили, и она испытывала томительное болезненное недоумение, которое возникает, когда чувства немеют от избытка и смятения мыслей. Образы, неясные и в то же время исполненные жаркой силы, властно вторглись в ее юное восприятие и оставались живыми в ее памяти, даже когда она о них не думала, воскресая в странных ассоциациях на протяжении всей ее дальнейшей жизни. Наши настроения часто воплощаются в мысленных картинах, которые сменяют друг друга словно на экране волшебного фонаря, и с тех пор Доротея, когда ею овладевала глухая тоска, вновь видела перед собой величественные своды собора святого Петра, гигантский бронзовый балдахин, неукротимую решительность в позах и даже в складках одеяний пророков и евангелистов на мозаиках вверху и вывешенные к Рождеству занавесы, алеющие повсюду, словно глаза были неспособны различать другие цвета.
Впрочем, такое внутреннее потрясение далеко не исключительно – юные души во всей их наивной обнаженности постоянно ввергаются в хаос тягостных несоответствий, и им предоставляется «самим встать на ноги», а старшие и опытные люди тем временем спокойно занимаются собственными делами. И я не думаю, что зрелище миссис Кейсобон, рыдающей от отчаяния через шесть недель после свадьбы, будет сочтено трагическим. Замена воображаемого будущего настоящим неизбежно сопровождается определенными разочарованиями и страхами, и это вполне обычно, а то, что обычно, по нашему внутреннему убеждению, не может сокрушить человеческое сердце. Тот элемент трагедии, который заключается именно в ее обычности, пока еще недоступен загрубелому восприятию рода людского, а возможно, мы попросту не приспособлены к тому, чтобы выдерживать длительное соприкосновение с ним. Если бы мы могли проникать в глубины обычной жизни и постигать то, что там происходит, это было бы так, словно мы обрели способность слышать, как растет трава и как бьется сердце белочки, – мы погибли бы от того невероятного шума, который таится по ту сторону тишины. Но пока даже проницательнейшие из нас отлично защищены душевной глухотой.
Но как бы то ни было, Доротея плакала, однако, если бы ее попросили объяснить причину, она, подобно мне, прибегла бы лишь к общим словам: уточнить значило бы попытаться изложить историю игры светотени, ибо видение нового подлинного будущего, вытесняющего воображаемое, слагалось из бесконечных мелочей, которые накапливались с постепенностью, незаметной, как движение минутной стрелки, и теперь Доротее супружеский долг и мистер Кейсобон представлялись совсем не такими, какими рисовались в ее девичьих мечтах. Пока еще протекло слишком мало времени, чтобы она могла вполне осознать это изменение или хотя бы признаться себе, что такое изменение происходит, – а тем более дать иное направление преданности и лояльности, которые настолько прочно вошли в ее духовный строй, что рано или поздно она неизбежно должна была на них опереться. Непрерывный бунт, хаотичная жизнь без какой-либо высокой цели, требующей любви и самоотверженной решимости, были для нее невозможны. Но пока она переживала тот период, когда сила ее характера только увеличивала смятение. В этом смысле первые месяцы брака часто напоминают бурю – то ли в стакане воды, то ли в океане, – которая со временем стихает и сменяется ясной погодой.
Но разве мистер Кейсобон не был столь же учен, как и прежде? Разве его манера выражаться изменилась, а жизненные правила стали менее похвальными? О женское своенравие! Разве из памяти мистера Кейсобона исчезла хронология, или он утратил способность не только излагать суть тех или иных теорий, но и называть имена главных их последователей, или уже не мог разбить на разделы любую заданную тему? И разве Рим не предоставляет самое широкое поле для применения подобных талантов? К тому же разве Доротея в своих мечтах не отводила особого места облегчению бремени тягот, а может быть, и печалей, которыми оборачиваются столь великие труды для тех, кто ими занят? А ведь сейчас еще виднее, что мистер Кейсобон влачит нелегкое бремя.
Все это вопросы, на которые нечего ответить, но, что бы ни осталось прежним, освещение изменилось, и в полдень уже нельзя увидеть жемчужные переливы утренней зари. Факт остается фактом: натура, открывавшаяся вам лишь через краткие соприкосновения в недолгие радужные недели, которые называют временем ухаживания, может в постоянном общении супружества оказаться лучше или хуже, чем грезилось вам прежде, но в любом случае окажется не совсем такой. И можно было бы только поражаться тому, как быстро обнаруживается это несоответствие, если бы нам не приходилось постоянно сталкиваться со сходными метаморфозами. Когда мы покороче узнаем человека, очаровавшего нас остроумием на званом обеде, или наблюдаем за любимым политическим оратором после того, как он становится министром, наше отношение к нему может претерпеть столь же быструю перемену. В этих случаях мы также начинаем с того, что знаем мало, верим же многому, а кончаем тем, что меняем пропорцию на обратную.
Однако подобные сравнения могут сбить с толку, так как мистер Кейсобон совершенно не был способен прельщать ложным блеском. Он притворялся не более, чем какое-либо жвачное животное, и вовсе не старался представлять себя в выгодном свете. Так почему же за недолгие недели, протекшие после ее свадьбы, Доротея не столько заметила, сколько с гнетущим унынием ощутила, что вместо широких просторов и свежего ветра, которые она в грезах обретала, приобщившись к духовному миру своего мужа, ее там ждут тесные прихожие и запутанные коридоры, как будто никуда не ведущие? Мне кажется, дело в том, что дни помолвки – это своего рода многообещающее предисловие, и малейший признак какой-либо добродетели или таланта воспринимается как залог восхитительных богатств, которые полностью откроются в постоянном общении супружеской жизни. Но едва переступив порог брака, люди ищут уже не будущего, а настоящего. Тот, кто отправился в плаванье на корабле супружества, не может не заметить, что корабль никуда не плывет, что моря нигде не видно и что вокруг – мелководье непроточного пруда.
Во время их бесед до свадьбы мистер Кейсобон нередко пускался в подробные объяснения или рассуждения, смысл которых оставался Доротее непонятен, но она полагала, что причина заключается в обрывочности этих бесед, и, поддерживаемая верой в их совместное будущее, с благоговейным терпением выслушивала перечень возможных возражений против совершенно нового взгляда мистера Кейсобона на бога филистимлян Дагона и на других божеств, изображавшихся в виде рыбы, и не сомневалась, что впоследствии достигнет необходимых высот и поймет всю важность этого столь близкого его сердцу вопроса. А его категоричность и пренебрежительный тон, когда речь заходила о том, что особенно волновало ее мысли, было легко объяснить тем ощущением спешки и нетерпения, которое оба они испытывали в то время. Но теперь, в Риме, где все ее чувства были взбудоражены, а вторгающиеся в жизнь новые впечатления усугубляли прежние душевные трудности, она все чаще и чаще с ужасом ловила себя на внутренних вспышках гнева и отвращения, а иногда ею овладевала тоскливая безнадежность. В какой мере Прозорливый Гукер или другие прославленные эрудиты, достигнув тех же лет, походили на мистера Кейсобона, знать ей было не дано, а потому подобное сравнение не могло послужить ему на пользу. Во всяком случае, то, как ее муж говорил об окружавших их странно внушительных творениях былого, начинало вызывать у нее почти содрогание. Возможно, им руководило похвальное намерение показать себя с самой лучшей стороны, но всего лишь показать себя. То, что поражало ее ум новизной, на него наводило скуку. Всякая способность думать и чувствовать, почерпнутая им от соприкосновения с живой жизнью, давным-давно преобразилась в своего рода высушенный препарат, в мертвое набальзамированное знание.