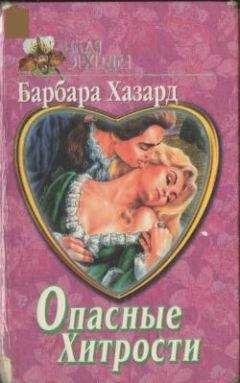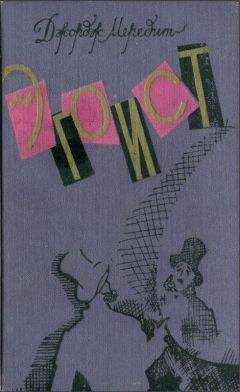Арман Лану - Майор Ватрен
Камилл, присев к гудящей печке, жеманно проговорил:
— Душка-режиссер в отвратительном настроении… успокойся, мой песик, твоя «Комическая история» будет иметь успех. Если бы Салакру был здесь, он бы при виде меня разинул рот от восторга!
И загримированный младший лейтенант сбросил одним движением свою шинель и, снова став девкой, ловко повернулся на каблуках, раздув свою легкую пышную юбку:
«Когда вы говорите мужчине слова любви, помните ли вы, что уже говорили их другому? Какое сочетание? Вот какая штука, дорогая Элен…»
— Великолепно, — сказал Альгрэн, преподаватель истории. — Великолепно! У меня всегда были неверные представления о елизаветинском театре. Он казался мне огромным балаганом, в котором зрителям приходилось изображать зрителей. Это неверно. Я меняю свое мнение. Капитуляция историка по одному из вопросов истории театра под влиянием открытий, сделанных двуполой примадонной из Померании…
— Двуполой! Двуполой! — воскликнул Камилл, подражая знаменитой актрисе Арлетти. — И твоей сестрой!
Альгрэн засмеялся.
— Камилл, вы не только двуполое, вы мифическое существо: я говорю так потому, что не знаю, как говорить о вас — в мужском или женском роде. Вы порождены театром. Вы — персонаж в костюме из холста, нарумяненный, с накладными волосами, с приклеенными бровями. Вы — лишь видимость, кукла, лишь проекция в мое воображение. Отчасти вы являетесь моим созданием, созданием зрителя. Да, вы — миф, у которого есть некое общественное бытие, есть свои портные, гримеры, карикатуристы, критики и даже свой костюмер, который в гражданской жизни является фабрикантом предметов религиозного культа, — это уже совсем скандально! Как миф, вы существуете отдельно от младшего лейтенанта Камилла. Я вам говорю «вы», развязная, общедоступная девка, при виде которой полковники начинают от вожделения пускать слюни, думают, до чего здорово это должно у вас получаться. Молчите, вы, вымышленный персонаж! Но в вас есть гениальность.
Альгрэн обернулся к Франсуа:
— Субейрак, что ты думаешь по этому поводу?
Франсуа вздрогнул, прислушиваясь к раздававшимся поблизости ударам.
— Ничего, — ответил он.
А может быть, это стучало его сердце?
Камилл произнес реплику из своей роли:
— «Я всегда верна уходящему мгновению. Раз я сама забываю о своем прошлом, другие тоже не имеют права помнить о нем, понимаете?»
Камилл повернулся к Ванэнакеру и, внезапно став мужчиной, сказал:
— Слушай-ка, ты, грубое животное, ты соорудил мне такой зад, что я пошевельнуться не могу. Я требую, чтобы мне было возвращено мое жизненное пространство.
Ванэнакер, специалист по кройке риз, вполне вошел в свою роль костюмерши:
— Тебе переделают твой зад, красотка, — сказал он.
В этот момент появился запыхавшийся Тото.
— Ах, с-с-скоты, — сдержанно сказал он.
— Что случилось? Фрицы взяли Москву? Что это у тебя такая рожа?
— Д-д-двенадцатый и с-семнадцатый на с-с-стрижку и в вошебойку, — пояснил Тото.
Франсуа тотчас понял, в чем дело: пленным стригли волосы. Офицеры, которые играли Элен, Жерара и Жана-Луи, были из двенадцатого барака. Камилла и исполнителя роли Элен это не пугало, так как они играли в париках, но как быть с мужскими ролями?
— Жерар и Жан-Луи — первые любовники с наголо остриженными головами, — сказал Камилл, подражая «русскому произношению», — как это есть хорошо! Это будет большой московский опера!
— Ты предупредил полковника, Тото?
— Сразу же. Он ходил к адмиралу…
Адмирал фон-Мардрюк, немецкий начальник лагеря, скучающий старик с неизменной улыбкой на лице, в белом кителе, шитом золотом, проявлял снисходительность к пленным не из-за сочувствия к ним, а скорее по склонности к покою; однако он был преисполнен благоговения перед лагерным распорядком.
— Ну и что же?
— Общее правило, он ничего не может сделать.
— Черт, — сказал Франсуа. — Когда это будет?
— Через час.
Субейрак выскочил из барака и направился к зданию лагерного управления. Лишь бы только застать Шамиссо! Хотя на прямые сношения французских офицеров с немцами пленные смотрели косо, Франсуа не колебался. Если ребят остригут, спектакль будет испорчен. Кроме того, Эберлэн и многие из тех, кто готовился к побегу, жили в двенадцатом бараке. Для них стрижка тоже была бы бедствием.
Франсуа вошел в небольшую «штубе», отделанную полированным деревом. В ней стояла походная койка, стол с папками, патефон, висел портрет фюрера. Шамиссо печатал на машинке. Он прервал работу. Франсуа объяснил причину своего прихода. Зондерфюрер выслушал его. Когда он узнал, что французский полковник уже разговаривал с фон-Мардрюком, на лице его мелькнула гримаса.
— Было бы лучше, господин Субейрак, если бы вы обратились прямо ко мне.
— Трудно не считаться с общественным мнением лагеря, — откровенно признался Субейрак.
— Вы придаете большое значение тому, что думают люди?
— А вы? Если бы вы, господин фон-Шамиссо, не придавали такого значения общественному мнению, вы бы не были здесь!.
— Совершенно справедливо, — сказал зондерфюрер, поглаживая светлые усы. — Вы — логичны, очень логичны. Вы — выдающийся диалектик. Мы — метафизики, а вы — логики. Нам следовало бы дополнять друг друга, а мы воюем!
Он положил нога на ногу, пригласил Франсуа сесть, предложил ему сигарету «Юно», но Франсуа опередил его, вынув пачку «Кэмел». Их получали в лагере в индивидуальных посылках и, главным образом, в посылках американского Красного Креста. Фон-Шамиссо взял сигарету «Кэмел», понюхал ее и протянул Франсуа маленькую непочатую пачку «Юно».
— Возьмите ее. Одна «Кэмел» стоит пяти штук «Юно». В отношении табака я не патриот и в отношении кухни — тоже. Да, жаль, что вы не обратились сразу ко мне. Запишите, пожалуйста, фамилии ваших артистов.
А будущие беглецы? Все это начинало походить на одолжение. Такой оборот не нравился Франсуа. Он рассчитывал, что стрижку отменят, как меру, которая раздражает людей. Он высказал это. Шамиссо развел руками с видом человека доброй воли, но бессильного. Он просмотрел список.
— Семеро. Вы не включили себя?
— Нет.
— У вас красивые волосы. Вы ведете спектакль. Я записываю вас,
— Нет, господин фон-Шамиссо.
— Я плохо представляю себе, господин Субейрак, как вы выступите перед началом спектакля с наголо остриженной головой, на манер Шери-Биби. Это походило бы на… ну, скажем, на очень тонкую демонстрацию.
— Я этого не думаю. Но раз так, есть другой выход. Я напишу вступительное слово, а кто-нибудь из актеров прочтет его.
— Если так, я согласен, — сказал Шамиссо.
Зондерфюрер сложил список и положил его в карман кителя.
— Хотите чаю? — спросил он. — Я его очень хорошо приготовляю. По-английски, разумеется.
Он принялся готовить чай и продолжал:
— Я сделаю невозможное, как у вас принято говорить. Через полчаса я повидаюсь с господином адмиралом.
Они стали пить чай. В самом деле, он отлично заваривал чай, этот потомок человека, потерявшего свою тень. Шамиссо поставил пластинку, включил патефон. Полилась веселая танцевальная джазовая музыка. В ее ритме звучало что-то новое для Франсуа: при нем до войны в ходу были пластинки Армстронга и Дюка Эллингтона. Он слушал, испытывая удовольствие и одновременно внутренне сопротивляясь ему. Мелодию вела гитара. Вторая пластинка была в еще более быстром темпе.
— Эти пластинки присланы из Парижа, — сказал зондерфюрер. — Они там пользуются бешеным успехом. Гитарист — Джанго Рейнгарт. Превосходно, не правда ли?
— Да, — сказал Франсуа. Он выпил глоток чая, у него вдруг пересохло в горле.
— Это называется суинг. «Суинг-трубадур».
— В Париже много танцуют?
— О, это запрещено, — ответил Шамиссо. — Но все-таки танцуют. Это своего рода фронда против нас, но она неопасна. На бульварах, в «Фэшнебл»…
— В «Фэшнебл»?
— Да… Там была надпись — «Пляшущая Франция в пьяной Европе». Мы велели стереть ее. Французское остроумие неизменно.
Он снова поставил ту же пластинку. Франсуа приподнял мембрану.
— Прошу извинить, — сказал он.
— Я понимаю вас, — ответил Шамиссо. — Господин Субейрак, я с сожалением узнал от господина Мюллера, которого вы прозвали «Вилами», — не так ли? — что ваша парижская корреспондентка разделяет ваши чувства по отношению к вашему соотечественнику Морису Рэймону. Очень жаль. Я больше ничего не могу сделать для вас. Я могу лишь сделать попытку добиться отмены стрижки для ваших актеров. Весьма сожалею.
Шамиссо протянул ему руку. Франсуа пожал ее. «Если бы мне сказали в июне 1940 года, что меньше чем через два года я буду пожимать руку немцу!» Хуже всего, что рукопожатие зондерфюрера было таким же прямодушным и честным, как и его взгляд.