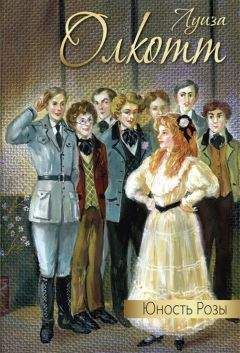Анри Барбюс - Ясность
- Ну и шляпа! - вопит он. - Я вам скажу, в чем тут дело: дождь погубил ее. Разве это фетр? Это просто грязный носовой платок! Вот вам и жертва декатировки, всяческой чистки-перечистки и непогоды!
Жюстен Покар разговаривает с тремя крестьянами; они держат шапки в руках и слушают его, раскрыв рот. Голосом прекрасного тембра он ведет речь о задуманной им крупной финансовой и промышленной сделке.
Горячка спекуляции наэлектризовывает присутствующих.
- Ну, и наделают делов! - захлебывается от восторга Крийон, отрываясь на минуту от созерцания шляпы, и затем снова принимается за свое занятие.
Жозеф Бонеас говорит мне вполголоса, чем я очень польщен:
- Этот Покар - человек без образования, но с практической сметкой. Замыслы у него большие, если, конечно, он смотрит на вещи так же, как и я.
А я думаю, что, будь я постарше или пользуйся я большим влиянием в квартале, я, быть может, участвовал бы в затее Покара, которая начинает принимать формы и обещает вырасти в крупное дело.
А Брисбиль хмурится. В сердце его нарастает тайная тревога: эти люди задерживают его, а ему мучительно хочется выпить. Он не может этого скрыть. Он косится на посетителей. По будням в этот час он уже опохмеляется. Внутри у него все пересохло, горит, он тычется от одного человека к другому. Ожидание - выше его сил.
Вдруг все оборачиваются к раскрытой на улицу двери.
К церкви подъезжает карета - зеленая карета с серебряными фонарями. Старый кучер, с тонким жезлом кнута в руке, в огромных перчатках, кажется многоголовым из-за множества воротников, нанизанных один на другой вокруг его шеи. Вороная лошадь горячится.
- Блестит-то, как рояль! - говорит Бенуа.
В карете - баронесса. Ее не видно, занавески спущены. Но карете все кланяются.
- Рабы, - бурчит Брисбиль. - Вы посмотрите-ка, нет, посмотрите! Стоит только этой старой богачке показаться, как все они - посмотрите-ка! начинают рыть носом землю: полюбуйтесь, мол, на наши лысины и горбы.
- Она делает много добра, - вступается кто-то из присутствующих.
- Держи карман шире! - хрипит буян, размахивая руками, как будто его кто-то держит. - А я называю это ханжеством. Вот как я это называю.
Все пожимают плечами. Жозеф Бонеас, неизменно выдержанный, улыбается.
- Богатые всегда были, - говорю я, поощренный его улыбкой. - Они нужны.
- Понятно! - трубит Крийон. - Все это давно известно, стоит только пошевелить мозгами. Но я вот что скажу: некоторые от зависти лопнуть готовы. Я же не из тех, кто лопается от зависти...
Мьельвак надел шляпу на свою окаменевшую от испуга голову и идет к двери. Жозеф Бонеас тоже поворачивается и уходит.
Вдруг Крийон кричит:
- А-а, вот и Петрарка! - и устремляется на улицу, следом за долговязой фигурой; а та, завидев его, только шире раздвигает длинные ноги и постыдно удирает.
- Вы подумайте, - скорчив страшную гримасу, говорит Брисбиль, когда Крийон испаряется, - ведь этот шут - муниципальный советник! Дьявол его!..
Брисбиль весь кипит и трясется от ярости. Вот он нетвердо стоит на ногах, уставившись глазами в пол. И крутит, и так и этак вертит, мусолит и склеивает лохматую, уродливую папиросу.
Рыча, втянув голову в плечи и хромая в дырявых шлепанцах, как Вулкан, кузнец бросается к горну и дергает цепь мехов. Каждый взмах мехов со свистом выбрасывает из пасти горна, насыщенной угольной пылью, голубоватую комету, изборожденную белым, потрескивающую и ослепительную. Кузнец бьет молотом.
Он взбудоражен, он побагровел, он пригвожден к своему углу, как узник, единственный в своем роде, объявивший бунт необъятности вещей.
* * *
Звонят к мессе, и мы уходим. Вдогонку нам несется брюзжание Брисбиля. Досталось и мне. Но что мог он выдумать против меня!
На церковной площади все снова встречаются - разношерстное сборище. В квартале, за исключением немногих рабочих, которых держат на примете, все ходят к мессе, и мужчины и женщины: из приличия, в угоду владельцам замка, хозяевам, либо по убеждению. К площади ведут две улицы и две дороги, обсаженные яблонями; эти четыре пути приводят сюда и город и деревню.
Площадь по форме напоминает сердце. Как она хороша! На нее падает тень векового дерева, под которым в старину вершили суд; вот почему его называют "Большое дерево", хотя есть деревья и выше и ветвистее. Зимой оно черное, как дырявый дождевой зонт; летом оно отбрасывает светлую тень, как зеленый зонтик от солнца. Рядом с деревом - высокое распятие, давний обитатель площади.
Площадь кишит, волнуется. Окрестные крестьяне в ситцевых колпаках без кисточек ждут на старом углу Новой улицы, тесной кучкой, как яйца в лукошке. Все эти люди нагружены снедью. Вот по диагонали пересекает площадь крестьянка с огромной черной сеткой в руке; сетка топорщится, и женщина держит ее на весу, как мясную тушу. На каменных плитах мостовой - в силуэтах, точно нарисованных углем, и лицах, румяных, как яблоки, - видишь лубочную картинку. Стаи ребятишек носятся и щебечут; девочки играют в куклы, изображая матерей, мальчуганы играют в разбойников. Горожане держатся чопорнее крестьян и в ожидании мессы благопристойно говорят о своих делах.
А дальше - дорога; апрельское солнце вдоль линии деревьев украсило ее кружевом тени и золота; звенят, как электрические, звонки велосипедов, стучат колеса экипажей; сверкающая река, полотнища воды, по которым солнце расстилает полотнища света и разбрызгивает слепящие точки. Слежу глазами за дорогой: рядом с утрамбованным, твердым шоссе - мягкая, вспаханная земля; многоцветные полосы, сшитые одна с другой (сукно грубошерстное и сукно бильярдное), постепенно бледнеют в пространствах. Местами в эту цветную карту вкраплены леса. Проселочные дороги обсажены деревьями, которые доверчиво следуют друг за другом, а на лугах стада овец, словно игрушечные.
Знакомый, милый пейзаж. Ночью прошел дождь, и сейчас эти омытые камни, заново отлакированные черепицы, крыши, то серые, то солнечные, блестящая мостовая в разводах лужиц, нежно-голубое небо в облачках из папиросной бумаги, соседняя колокольня - похожая и не похожая на нашу - между двух зданий, желтых, как охра, тронутая коричневой краской, на лиловом бархате дальних лесов - это акварель. Взгляд ловит видение, радостное, точно радуга.
С площади, где чувствуешь себя свободно, как дома, входим в церковь. Из-за чащи свечей кюре бормочет что-то - нескончаемую проповедь, благословляет, обнимает всех и каждого, отечески и матерински. Впереди всех на господской скамье - маркиз де Монтийон, похожий на офицера, и его теща, баронесса Грий, одетая, как простая дама.
Месса окончена, мужчины расходятся, женщины не торопятся, они собираются роями, кружатся на месте. Затем эти шумливые соцветия рассыпаются.
В полдень закрываются лавки: богатые автоматически, остальные кустарным способом, - ставни тащит и водружает какой-нибудь молодец. И все пустеет.
После завтрака я брожу по улицам. Дома мне скучно, но я не знаю, что мне делать вне дома. У меня нет друга. Некого навестить: с одними я уже не могу дружить, другие со мной еще не хотят дружить. Кафе и кабачки гудят, звенят и утопают в табачном дыму. Я не хожу в кафе из принципа - у меня боязнь расходов, внушенная мне моей тетей. И вот я слоняюсь бесцельно по пустынным улицам, разверзающимся передо мной от поворота к повороту. Бьют часы. К чему мне знать, который час? Мне нечем заполнить время.
Я иду в сторону садов богачей, спускающихся к реке. С некоторой завистью я смотрю на вершины деревьев за оградами этих пышных парков, на могучие ветви в уборе прошлого лета, пропыленном и старомодном.
Далеко от этих мест я встречаю Тюдора, приказчика в модном аптекарском магазине. Он в нерешительности, он не знает, куда ему идти. Каждое воскресенье он надевает один и тот же крахмальный воротничок, который становится все грязнее. Поравнявшись со мной, он останавливается, как будто убедившись, что ему незачем идти дальше. Во рту у него торчит погасшая папироса.
Он тащится за мной. Мы молча бредем до платанов. Изредка на безлюдной улице промелькнет силуэт. Я смотрю на молодых девушек; они на минуту возникают на плоскости фасадов, перед закрытыми витринами - некоторые из них прелестны, рядом с ними матери, похожие на них, как карикатуры.
Тюдор ушел, а я этого даже не заметил.
Почти все кабаки освещены, шумят. В серых сумерках крадется к ним неодолимая толпа. Она надвигается темной тучей, она несет молнии, грозу.
* * *
И вот наконец вечер; он смягчает камень улиц.
...На берегу реки, куда я пришел в одиночестве, рассеянный, оживают идиллии. Смутно вырисовываются фигуры: люди ищут и находят друг друга. Появляются, исчезают пары, укрываясь от бледного света заката. Вечер стирает краски, черты, имена прохожих.
На берегу я вижу женщину; она ждет, силуэт ее вычерчен на жемчужно-сером поле, и кажется, что тень кругом ложится от него. Я хочу вспомнить ее имя, но узнаю лишь ее изваянную красоту. Неподалеку от этой одушевленной кариатиды, между черных колонн высоких деревьев с мглистыми ветвями, словно наклеенных на последнюю полоску лазури, проходят призрачные, тесно слитые пары. Тень укрывает их в своем храме.