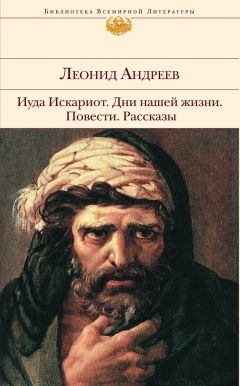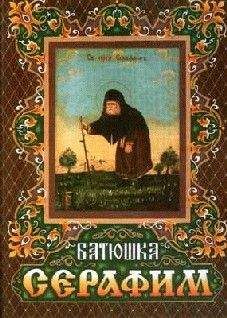Жигмонд Мориц - Мадьярские новеллы
Он дернул веревочку на дверях и вошел. Темная, душная хата. Окошки замазаны глиной, заклеены бумагой. Дымится дырявая железная печурка, а все-таки собачий холод!
Варга бросил взгляд на постель, где под грязной периной лежала исхудавшая, высохшая, бледная мать. Увидев сына, она закашлялась и долго не могла уняться.
— Садись, — сказала больная тоненьким, слабым голоском.
Крепкий, румяный мужик стоял смущенный.
— Ох, ох, — вздохнул он, махнув рукой.
Старуха приподняла сухую, бессильную руку и устало махнула.
— Теперь уж все одно. Садись.
Кто-то сзади подставил ему стул и бесшумно выскользнул за дверь. Это была Верон.
— Чем я могу помочь вам, матушка?
— Ты?.. Ничем. — И синеватые губы старухи искривились. — Как-нибудь сама уберусь.
Долго длилось молчание. Старуха снова закашлялась. Сын, понурившись, смотрел в одну точку.
Наконец мать заговорила.
— Я слышала, ты Тёсег собрался арендовать.
Сын склонил голову набок и пожал плечами. Он почувствовал облегченье, что речь зашла о таком обыденном деле.
— Да, думал было.
— Ну и что ж?
— Не дает.
— Не дает?
— Нет.
— Ах он, пес этакий! — пронзительно закричала вдруг старуха, и ее опять стал бить кашель.
Сын удивленно уставился на мать.
— Да что... Видно, рожа моя ему не приглянулась, вот и не дает, — сказал он, будто хотел еще пуще растравить старуху. — Он ведь барин, Генчи. Вот уже восемьдесят лет все барин! А я кто? Мужик сиволапый, какой-то Дюри Варга.
— Пес он, вот он кто! — зашипела старуха. — Пес поганый! Собака!
— Кто?
— Да этот старый хрыч. Он! Чтоб ему провалиться! Чтоб небо рухнуло на него! Ух, собака!
— А кто ему прикажет? Хочет дать — даст. Не захочет — не даст, — буркнул сын.
— Кто прикажет? Я, я! Я ему прикажу, собаке! Я! — крикнула старуха и приподнялась на кровати, худая, страшная. — Ты не нужен ему? Не нужен? А я нужна была? Нужна? Что? А? Плох ты для него, плох! Гнушается, гнушается!.. А я нужна была? Старый пес! Старая свинья! Я ему по вкусу пришлась! Мною-то попользовался! А ты ему не нужен. Мать нужна была! А сын не нужен! Родной сын! Старый пес, старый пес!
Сын вскочил. У него надулись жилы на шее, и он заорал:
— Что вы мелете? Про кого это вы?
— Про Генчи, про старика Генчи, про барина, про отца твоего, про старую свинью!
Сын пошатнулся. Онемел. Сердце тяжко и часто заколотилось в груди.
Долго стояла тишина.
Сын рухнул на стул. Сидел молча, тупо уставившись куда-то вдаль.
Старуха плакала. Потом чуть слышно, прерывистым шепотом произнесла несколько слов:
— Я красивая была. Вот он и позарился на меня. Гонялся за мной. У него со всей деревни бабы в любовницах перебывали. Шелковый платок мне посулил, узорчатый шелковый платок... — и даже сейчас блеснули у старухи глаза, жалкие бабьи глаза — тусклые, водянистые, старческие.
— А почему вы, матушка, мне этого раньше не сказали? — хрипло спросил сын после долгого томительного молчания.
Мать махнула рукой.
— Совестно было, сынок.
И оба горестно и мучительно умолкли.
Сын вскинул голову. Только сейчас дошло до него то, что сказала мать давеча.
— А что он дал вам? Что он тогда вам дал... матушка?
— Что? Ничего, — враждебно ответила мать, отведя глаза в сторону. — Он и тогда был сущим псом. Лгуном. Посулился мне подарить шелковый платок, узорчатый шелковый платок, какие в ту пору носили. И то не дал. Посулил, а не дал.
— Это правда? Верно говорите?
-— А ты разве видел когда-нибудь на мне шелковый платок? Видел его, что ли? Неужто я бы выбросила его? Дважды просила я его, негодяя. Посулил, а дать не дал. А ведь знал, что я понесла! С той поры он и смотреть на меня не хотел. Мужа тогда не было дома, он полгода проработал в берегских лесах. Как я только срам свой прикрыла!.. А старый хрыч все знал, и в глаза мне не глядел... Я в третий раз пришла к нему, за тебя стала просить. Как раз ты школу кончал, и голова у тебя была такая хорошая, что учитель сказал: «Надо его в коллегию отвезти». Надо, говорит, отвезти, разок заплатить, а больше вам и забот никаких не будет. Сам епископ будет платить за него. Только первый раз, мол, надо самим заплатить. Пошла я к старику Генчи, попросила у него несколько несчастных пенгё. Дай, мол, сейчас, а там и бог с тобой! Никогда я сыну не скажу, что меж нами было. Да разве он даст! Ему душа не позволяет. Так и сказал: «Сын твой мужик, пусть мужиком и останется». А я ему в ответ: «Знайте, барин, — говорю, — так и знайте, этим дело не кончится. Сын мой еще выйдет в люди. Растут еще палки в лесу!»
Сын вскочил, топнул ногой, взмахнул кулаком, точно быка хотел оглоушить. И задышал часто-часто, словно разъяренный буйвол.
— Ступай к нему, — пронзительно закричала старуха, — ступай к собаке! Скажи, что я просила сдать тебе в аренду Тёсег. Скажи, что я на смертном одре наказала, пусть отдаст Тёсег, а не то его сгложет лихая смерть.
Старуха захрипела, осипла, глаза у ней выкатились, руки задрожали, будто ее била, колотила бессильная злоба, накопившаяся за всю долгую, горемычную жизнь.
Сын нахлобучил шляпу и вышел. Оставил мать еле живую, задыхающуюся от кашля и крика.
Он помчался домой.
А дома жена рвала и метала. Она уже знала, где он был. Сын, болтливый, злобный мальчишка, донес ей, что приходила Верон. Точно разъяренный дракон, накинулась жена на мужа, когда он вошел.
— Что, не вытерпела душа? Домой потянуло? К матери под юбку?
— Молчать! — заорал муж, да так, что оконные рамы задрожали. У жены слова застряли в горле. — Молчи, а не то раздавлю тебя! Мать моя помирает. Отнеси ей поесть. Горячего супу. И сиди там, пока я не вернусь! Да смотри, не перечить, иначе вышибу отсюда! Дрянь такая! Кто ты по сравнению со мной? Поганая мужичка! Барахло!
Жена чуть в обморок не упала. Но, заглянув мужу в глаза и увидев, какое в них полыхает неистовое пламя, она сникла, присмирела, точно ребенок, испугавшийся большого, сильного человека. Она выбежала в кухню, остановилась там чуть не в беспамятстве и разрыдалась. Потом у нее побежали мурашки по спине, забила лихорадка, и она взялась выполнять мужнино приказание.
Нарядившись во все праздничное, муж вышел вскоре из горницы и даже янтарную трубку с кисточкой не забыл положить в карман.
Кинув на жену горячий как пламя печи, обжигающий взгляд, он ушел.
Направился прямо в усадьбу к Генчи.
— Где барин? Где его благородие, господин Пал Генчи? — громко и решительно спросил он.
— В черной комнате.
Он вошел без стука; оказался прямо перед знатным барином.
Дряхлый восьмидесятилетний старец в поношенной венгерке сидел в кресле и курил трубку. Равнодушно глянул он на вошедшего, который, коротко поздоровавшись, остановился перед ним.
— Тебе чего? — равнодушно спросил Генчи.
— Я пришел передать вам кое-что.
— Ладно.
Мужик молчал. Только в глазах его полыхало неукротимое пламя: казалось, оно выпускает когти, хлопает крыльями.
Старого дворянина, бывшего мелкого феодала, бывшего судью, испортившего на своем веку тысячу девушек и запечатлевшего свои победы в завещании, которое хранилось в капитуле, все больше брало нетерпение. Он вдруг крикнул хриплым, осипшим голосом:
— Ну, выкладывай, чего тебе!
Мужик по-прежнему молчал.
— Чего тебе надо?
— Пришел вам передать кое-что.
— Это я уже слышал.
— От матери.
Старик взглянул на него. Из-под красных век блеснул острый колючий взгляд черных глаз.
— Ну и что ж?
— Мать велела сказать, чтобы вы, господин Пал Генчи, передали мне, Дюри Варга, в аренду Тёсег.
— Вот как? Гм... — И старый барин несколько раз примял черным указательным пальцем горячий пепел в трубке. — Что ж, кланяйся матери, сынок, да только поздно догадалась она мне это передать. Жаль, не сказал ты ей то, что я говорил тебе вчера. Тёсег я уже пообещал Шаму, Шаму Шварцу.
— Ну нет! — взревел мужик и стукнул изо всех сил кулаком по столу. Толстая дубовая доска треснула по всей длине. — Вы, барин, матери моей тоже кой-что пообещали и не сдержали слово. Вот и это слово также не придется вам сдержать!
Старый гайдук испуганно приоткрыл дверь. Седовласый помещик махнул рукой, — нет, мол, в нем нужды.
Сам он спокойно сидел в кресле. Ни один мускул не дрогнул у него на лице.
— Что это я пообещал твоей матери? — спросил он глумливо и строго.
— Узорчатый шелковый платок! — прохрипел мужик.
Старик задумался.
— И не отдал?
— Никто не видел, чтобы мать его носила.
Старик разгладил усы и задумался: то мигал глазами, то супил брови и наконец заговорил:
— Раз она ничего не получила, разумеется, следует ее уважить.
Он взглянул на мужика и отрывисто спросил:
— Дашь столько же, сколько Шварц дает?
Под ногами у Варги земля ходуном заходила. Хотелось все, что было под руками, швырнуть в лицо старому негодяю... Но потом в нем заговорила, взяла верх материнская, мужицкая кровь.