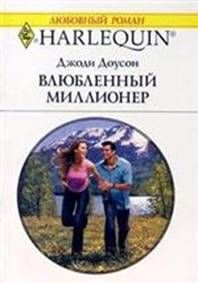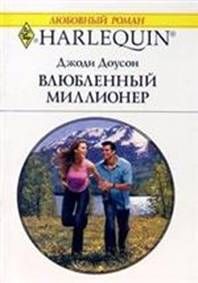Дмитрий Холендро - Ожидание: повести
— Тебя ждем, — помягче отвечает матрос. — Дотемна досиделись.
Старику кажется, что глаза блуждают, в них мелькают тени давних дней и тени двух фигур на дальней стене, но блуждают его потревоженные мысли, а глаза уставились на это запоздавшее счастье, на дуру Надьку, столько лет ждавшую непутевого жениха, и сквозь откровенную тоску пробивается неожиданная для самого старика смешинка. Она озорно выпрыгивает наружу и не прячется от людей, облегчая их маетную минуту.
Они скованы своей нечаянной парадностью и еще больше сбиты с толку совсем неподходящим к ней, к парадности, видом промокшего старика. А он смеется.
— Под венец или из-под венца?
И они вздыхают, освобождаясь от застенчивости, приличествующей минуте, и неловкости, потому что обоим не просто в этом доме.
— Под венец! — грешным голосом говорит Надя, громко говорит, для смелости, наверно, или от восторга. — Свадьбу играем завтра.
— Пришли тебя звать, — добавляет матрос, эдакая детина, что от голоса его гулко взбрякивают стекла в окне.
Старик выгребает из карманов плаща пачки махорки и складывает на столе.
— И куда это столько табачищу! — деловито укоряет Надя.
— С цигаркой я вдвоем, — лукаво подмигивает ей Харлаша, — а так один…
И вдруг закашливается от одного запаха махорки, которой он и впрямь накупил, будто бы на весь остаток жизни, и кашляет, сердясь на себя, долго и ворчливо, а на глазах его трясутся слезы, то ли от табака, то ли от смеха.
— Вот вам! — охает Надя. — Бросили бы вы курить-то!
— Скоро все брошу! — отмахивается от нее Харлаша, продолжая шутить по-стариковски, а матрос поддерживает его:
— Видал, какую контролершу себе беру? Дай совет, брать ли?
— Ты ее не ругай! — бормочет Харлаша. — Она мне как дочка.
Он стягивает с себя плащ и цепляет на крюк у двери, замечая под ним грязные сапожищи матроса и резиновые сапожки Нади. Пожалели выдраенный им с Семкой пол. И стоят у стола в чулках-носках. Он и сам зачем-то стаскивает сапоги и садится на табуретку. Забрал матрос Надьку!
Этого матроса Харлаша приметил на вокзале, когда еще ездил туда, к дальним поездам.
Раз с подножки вагона осторожно спустился инвалид, мордастый, грудастый, с чернющей запущенной бородой, и заскакал по платформе на костылях. Кто уж скажет, почему пошел за ним Харлаша до самого базара, где, как всегда, толклись хозяйки и продавцы сгребали деревянными лопаточками груды расползающихся мелких, как семечки, красных рачков на прилавках?
Инвалид сел у стены, часть которой с незапамятных пор была заложена шарами обезвреженных рогатых мин вместо камней, подогнул под себя целую ногу и закричал так, что жилы у него на шее вздулись торчком, как трубы:
Измученный, истерзанный
Проклятою войной,
Без обех ног оторватых
Вернулся я домой.
Вернулся я калекою
В родительский свой дом,
А там семья несчастная,
И я лишен трудом.
Харлаша подошел вплотную и смотрел на него, ухмыляясь почти так, как сейчас. Матрос не выдержал, бросил петь.
— Чего смотришь, отец?
— Борода у тебя таежная! — покрутил головой Харлаша.
— Борода первый сорт! — заорал матрос.
И в самом деле, было чем гордиться: черная борода, белые зубы. Вот только ноги нет. Но Харлаша, не жалеючи, сказал и про это:
— А врешь-то зачем? «Без обех ног»!.. Одна нога при тебе.
— Одна — не две.
— Эх, а пахнет от тебя противно! — опять закрутил головой Харлаша.
— Ай не пьешь, отец? — кривляясь, удивился матрос.
— Почему же, — просто сказал Харлаша, садясь рядом. — Когда выпью, и от меня противно пахнет.
Матрос хотел встать, ему надоели похожие разговоры-уговоры. Но Харлаша прижал рукой костыли к земле.
— Где тебя?
— В Севастополе.
— Как?
— Был засыпан в блиндаже с головой.
— Зачем вылез-то?
— Жить хотел!
— Разве это жизнь? — сказал ему Харлаша. — Ну, был бы ты певец, а то ведь сипишь, как холодный паровоз…
— Так ведь грудь тоже простреленная, отец.
— А не врешь? — спросил Харлаша.
— Вру. Голос с детства одинаковый, — не стал спорить матрос. — Плясал я… Была б нога, я б тебе чечетку отбил. Эх, жаль, ногу отобрали!..
— Зачем плясать? Я тебе на слово верю, — сказал Харлаша. — Где живешь?
— Нигде, — вызывающе гаркнул в лицо ему матрос.
— А родители были?
— В Севастополе.
— Искал?
— Их не найдешь.
— Пойдем, — сказал Харлаша. — У меня места много.
Сколько ночей они проговорили!.. Да нет, он слушал, а матрос рассказывал, как служил в этом городе на катерах, как ходил в разведку на суше, как была у него зазноба… Может, врал, может, правду говорил, Харлаша все слушал, как он кается и как стучат его костыли.
И однажды пришла Надя с корзиной для белья. А матрос сам стирал… В рубахе, с куском клеенки на пузе, прихваченным морским ремнем, с носовым платком на голове. Надя от него корзинкой загородилась.
— Испугалась? — засмеялся старик.
— Бородища-то! — прошептала Надя.
— Не полюбят? — спросил матрос.
— Почему? — овладела собой Надя и пошла огрызаться по повадке всех голубинских девчат. — С такой бородой любая полюбит!
— Сбрею, — сказал матрос. — Хочешь?
— Мне с вами не целоваться! — засмеялась Надя.
И давай выдергивать у него белье.
— Не мужское дело.
— Так ведь мужчина, если не притворяться, — сказал матрос, — любую женскую работу сладит.
А она уставилась на него, вцепилась глазами, и он спросил ее, как Харлашу на базаре:
— Чего так смотришь?
— Рубашка знакомая…
— Старик дал…
А потом он сбрил бороду и, когда спросил его старик, почему, ответил, что надоела, и старик подумал, что опять врет матрос, но ничего не сказал. А когда перестал матрос ночевать дома, и старик выкуривал, как прежде, бывало, в одиночку, длинные цигарки до рассвета, пришлось рассказать ему про Надю и Витьку.
— Знаю, — сказал матрос. — Эх, сейчас бы стукнуть по маленькой!
— Я стукну, — пригрозил Харлаша, — искры полетят!
— Рехнулся я совсем! — сказал матрос, горюя.
А Харлаша свернул и ему цигарку.
— Смотри, я тебе не нянька… Я так.
И матрос ушел и стал жить в рыбном цехе, в дежурке, где работал.
А вот теперь заявились оба. Пожалуйста! Сияют, как солнышки.
— Устал я, — вдруг роняет Харлаша, повесив руки плетями.
И словно были Надя с матросом слепые, а теперь открылись у них глаза, увидели, как старик съежился, потемнел, а ему и спрятаться некуда.
— Нельзя ж так, отец, — укоряет матрос.
— Это ж известно, как вы мучаетесь, — говорит Надя.
— А вам какая забота? — неприязненно цедит Харлаша, но это звучит как поражение.
— Ведь не пишет он, не пишет! — вырывается у Нади.
— Как не пишет? — торопливым шепотом спрашивает Харлаша, вскинув голову. — А вот они, письма!
Прямой и гордый, как в лучший свой день, он пересекает комнату адмиральским шагом, оставляя на полу следы от мокрых шерстяных носков, отбрасывает подушку с постели, хватает жестянку из-под чая и той же поступью возвращается к столу. Шаги его бесшумны, на пятках Надя успела заметить дыры, и чем круче и непримиримей держится Харлаша, тем более он смешон и жалок, и так хватает за сердце Нади эта жалость, что она прикусывает губу.
— Вот они! — вздернув вверх растрепанную бороду, криком отхлестывает гостей Харлаша и вскидывает руки над столом.
Из опрокинутой жестяной коробки падают сначала очки, а затем, вроссыпь, письма. Они ложатся горкой, слишком тощей для нескольких лет, но Харлаша этого не замечает. Вот они. Они есть.
Матрос садится и, перебирая письма, наугад, читает из них разные строки.
«Приехал я в город Тагил, но не останусь… Картошка и та дорогая…»
Слышно, как дышит Харлаша, не может отдышаться.
— Читай, читай! — то ли мстительно разрешает он, то ли торопит от стыда.
«Отыскал ее, а у нее уже двойня… Смех один!»
— Все вы одинаковые, — шепчет Харлаша.
Длинные глаза Нади темнеют, как небо перед грозой, сейчас всхлестнутся в них молнии, но матрос, вздохнув, перебивает эту вспышку неожиданно тихим голосом:
«Вот где хорошо, но квартир нет, хотя можно построиться, как демобилизованному, самостоятельно. Если б ты, батя, продал к лешему домик и прислал деньжат…»
— И продам! — хрипит Харлаша и бьет кулаком по столу, словно вызывая матроса на скандал.
«Один раз море мне приснилось…»
— Ага! — кричит Харлаша, ликуя.
«А приехать не могу, некогда. Писать — и то некогда».
— И все ж пишет!
— Старые это письма, — беспощадно говорит матрос.
Харлаша сел и сидит, снова свесив руки и не в силах пошевелить ими, как будто вся кровь стекла к пальцам, а место ее повсюду заняла пустота. От тоски. Потому что человека опустошает тоска.