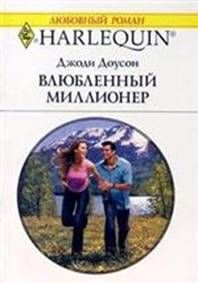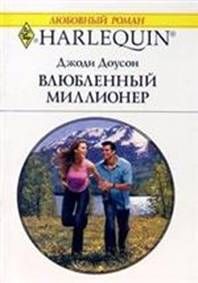Дмитрий Холендро - Ожидание: повести
Да полно! Может, так только кажется Харлаше? Вон идет коротенький, кривоногий Лешка, малыш малышом, разве что в пуговицах, блистающих, как у адмирала, и обнимает самую чернявую в поселке девушку, которую кличут Варькой-галкой, а она гнется к нему веточкой, и глаза у нее такие заразительно сумасшедшие, а юбка мокрая, и ноги мокрые и босые, а мокрые туфли тащит в руке. Рядом с ними поют, и кто-то, кого и не узнать сразу, бьет и бьет рукой по всем струнам гитары, и старик отступает, чтобы дать дорогу, а они все останавливаются. И песня смолкает.
— Здравствуй, Харлаша! — кричит Лешка.
— Что же вы… — мнется старик. — Играйте…
У него вдруг сдавливает горло.
— Как поживаешь, отец?
— Дождалась? — спрашивает Варьку Харлаша.
— Он мне с сейнера гудел! — хвалится она и смеется.
Вон как! Оказывается, это он ей пускал сирену, а Семка думал — ему.
Подваливает новая гурьба молодцов, и с ними Карпов.
— И твои, Егор? — смотрит на них во все глаза Харлаша: эти катались на закорках, когда Витька уже бегал в школу.
Ах, Витька! Быть бы тебе у них капитаном, дурак!
— Оба, — воркует Карпов, похлопывая молчаливых сыновей по высоким плечам. — Выучились… Вот и новые сейнеры привели… А какие! Нет, ты глянь, какие кораблики для сопляков! Вроде бы и по чарке надо, Харлаша?
И тут ревниво вмешивается всеми забытый Семка:
— А мы лодку чиним!
Взрослые смеются. Карпов хохочет, поддерживая живот. И Варька смеется, выливая воду из туфель. Даже молчаливые карповские сыновья похмыкивают. И у самого старика усы растопыриваются в усмешке.
— Пошли? — обнимает его Карпов.
— Да мы лодку чиним! — подтверждает Харлаша. Он трогает Семку рукой, и они спускаются к морю по шуршащему обрыву, под музыку снова зазвеневшей гитары.
14И вдруг он понимает, что сыну покажут почти официальный запрос с почты, положив его на этот самый адресный стол, и что он сделает, Витька? Не помня себя, с дрогнувшим сердцем, побежит прямо от стола на вокзал и сейчас же купит билет и помчится домой, и уже по дороге будет ненасытно глотать эту безлесную степь, распахнутую до самого родного порога, и это море, которое так сияет сегодня, что можно ослепнуть.
Скорей домой!
— Семка, входи.
Семка не робеет, а жмется, будто его не пускает что-то жуткое, что он увидел, но он не увидел ничего. Пустой стол, пустой подоконник, пустая табуретка у железной кровати. Керосиновая лампа на столе, цветной горшок на подоконнике, начатая пачка махорки на табуретке только подчеркивают пустоту и странность жилища. А парень с гитарой улыбается как-то совсем не к месту.
Семка тихо ступает по темному дощатому полу с пятнами облезшей краски и оглядывается по углам, словно все вокруг — неправда и сейчас переменится. В сердце мальчика бьет жестокая и несправедливая пустота.
Что он знает про дом Харлаши, про жизнь Харлаши? Разве догадывается, что было в этой жизни и какие сны живут здесь и поныне? Ему кажется, что всегда было так, а так быть не должно…
— Ты тут живешь? — спрашивает Семка.
— Не нравится тебе мой дом?
— Нравится, — говорит Семка, а глаза его, мелкие, словно бы вбитые, как гвоздики, между крутыми булыжниками упрямых скул и надбровий, отцовские глаза, расширились фонарями и еще обегают стены, удостоверяясь в их невеселой наготе. — Занавески повесить, и все…
Без занавесок дом голый, как дерево без листа.
— Повешу! — подхватывает Харлаша, открывает сундук, падает на колени перед ним и встает с ворохом старых тюлевых штор. — Молодец ты, Семка!
Ему и не приходило в голову, что дом неуютен и живую душу не потянет. Еще хуже — отпугнет.
— Давай, Семка, красоту наводить!
Семка таскает воду из бочки во дворе, и они скребут и моют все углы, и двери, и окна и цепляют шторы на гвозди, заколоченные в стены. Последним они долго втягивают и ставят на место комод, закрывая самое большое пятно краски на полу. На комод плюхается буханка поплавка и к нему прислоняется карточка Виктора.
— А сам-то он где? — спрашивает Семка.
— Скоро приедет.
Харлаша крутит цигарку, руки его не слушаются и дрожат, и махорка сеется на чистый пол, а он сердится: «Ах, старость, будь она неладна! Чертово время!» Закурить… Первая затяжка как счастье. Но от первой затяжки он так закашливается, что больше не может сказать ни слова и бредет к кровати.
— Дедушка, тебе плохо? — пугается Семка.
— Хорошо.
15Всего одна туча за лето перевалилась через небо, с края на край, слила дождь, и больше капельки не упало, а сейчас полило.
Всю ночь грохотало море под дождем и разгрохоталось. Хлещет по крышам, по земле, хлещет за воротник. Со всех сторрн — вода.
Еще темно, а Харлаша уже в пути. Его сегодня не увидят на берегу рыбаки, выходящие на лов дождь не дождь. Он к открытию почты должен быть в городе.
— Привет пензионерам! — кричит из будки Лука. — Куда плывешь, старый?
Видно, не так-то уж рано, если Лука на месте. Просто солнце не может проломить толщу рыхлых туч и вывалиться из них.
— Харлаша! — кто-то окликает его.
Под фонарем, который прикидывается луной, спрятавшейся от дождя под козырек сельпо, обрисовываются две фигуры, плотная в глянцевитой зюйдвестке и тоненькая в прозрачном слюдяном плащике. Это Лешка и Варька-галка.
— Вот Варька хочет сказать…
Ломкий плащик хрустит на Варьке, дождик сечет лицо.
— Вот… дом нам с ней… твой дают, — продолжает за нее смущенный Лешка. — Мы не берем…
— Берите, живите, — отвечает старик.
— Правда? — спрашивает Варька.
— Ну, спасибо! — Лешка не знает, чем отдарить старика. — Может, в море с нами сбегаешь? На новом сейнере?
— Я свое отбегал…
Сапоги ступают по неспокойным лужам, воротник плаща задран, кожаная фуражка надвинута на глаза.
Этот Лешка, он привозил письма на велосипеде, еще мальчишкой, еще с фронта, еще когда была жива Катя…
Култыхая в волнах, ползали тогда по опасному морю, среди мин, разномастные катеришки, которых не забрала армия, и едва ли не самым утлым и самым проворным был его «Харлаша». Очень уж упрямый катерок! Нацепляет на буксир с десяток тяжелых дубов, приседает, прыгает, пока сдернет их с места, а, глядь, разбежится незаметно — не остановишь. Разве вдруг закашляется ни с того ни с сего, как после махорки, покашляет, покашляет и опять бежит, тянет вереницу пузатых лодок выгребать рыбу из ставных неводов.
Сейчас выволакивают сети из воды скрежещущие на все море лебедки, а тогда поставят над лучшим клячем, прицепным баркасом, три шеста шалашом, наверху — колесико с какой-нибудь свалки, от автомобиля или веялки, через колесико, в проточенный на домашнем станке желобок — канат, с одной стороны — хватка, с другой — руки, и тягай рыбу из невода, как тягают воду из степных колодцев.
Двое выбирают, нажимая всем телом, третий распускает хватку, полную живого груза, и блеска, и треска, над баркасом, а четвертый, пока растет, напластывается рыбья гора, подцепляет гвоздем на длинной палке ядовитых скатов и отшвыривает подальше в море, чтобы не портили еду человеку. Скатов развелось в ту пору невидимо много, как мин, и называли этого рыбака-чистильщика сапером.
И летели белыми лепехами со злыми крысиными хвостиками, будто это шило вместо хвоста, окаянные скаты, и шлепались комом в баркасы, а из баркасов в воду — тусклые медузы, такие мясистые, что обеими руками не поднимешь, и качались баркасы, норовя свалить с ног рыбаков, а их засыпали глупый бычок, или хитрая кефаль, или дружная хамса по колени, по пояс, так что потом, гогоча и ругаясь от усталости, вытягивали друг друга наверх под мышки, и, обсыхая на ветру, гремели латаные брезентовые робы кольчугами и становились днем серебряными от рыбьей чешуи, а вечером золотыми.
Иной чудак взгромоздится ногами на два соседних баркаса, и качает его вразлад, а он вяжет канаты и словно месит море и висит в воздухе и в пене среди волн, как бог. Крикнешь ему:
— Упадешь, холера!
А он:
— Все равно в гору не полечу!
А буксирчик уже напрягся, только и ждет, пока гаркнешь, как живому:
— Полный вперед!
И вот так, что ни день, с рассвета до заката.
С палубы он высматривал в волнах проклятые рога беспризорных мин, о которые то тут, то там спотыкались рыбаки, чтобы уже не встать и не разлучаться с морем. И однажды он увидел в бинокль Лешку.
Темная фигурка почтальона, как шальная, прыгала на берегу, размахивая руками. И от этой чепухи покатилось сердце, словно его подцепили багром и поволокли к берегу.
Уж очень отчаянно звал, торопил Лешка, а на песке у моря валялся его велосипед.
Но сначала Харлаша обманул себя: пришло хорошее письмо от Виктора, может, его орденом наградили. Вот старуха, Катя, и послала Лешку на берег. Потом еще раз обманул: может, это и не его кличет Лешка, а может, это и не Лешка, дал бинокль рулевому, а сам взялся за руль: