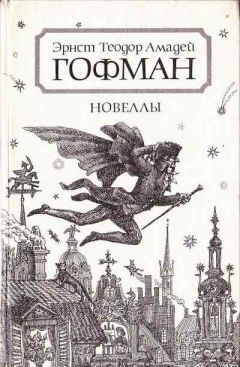Белькампо - Избранное
Но вот стены немного раздвинулись, и я увидел еще один такой же домик, и навстречу нам вышли люди. Кончилось пассивное созерцание, я старался показать, как я крепок и силен, и моя спутница получала удовольствие от каждого моего шага и от каждого взгляда, каким оценивали меня ее соплеменники, а они — мы постепенно прошли всю обитаемую часть ущелья и со многими говорили, — они радовались и восхищались с такой теплотой и участием, как будто единственная дочь представляла им своего жениха или как будто их родной сын вернулся домой после долгой отлучки.
Старики осматривали меня со всех сторон и хлопали по плечу, женщины бережно прикасались, как к священной реликвии, мужчины в расцвете лет подходили с приветственно протянутой рукой, показывая, что признают меня за своего, дети бросали свои игры и окружали нас, визжа от восторга. А моя спутница говорила с каждым, со всеми одинаково — оживленно и быстро, так быстро, что я ее не понимал, хотя было ясно, что речь идет обо мне.
Так бодро и сердечно вели себя эти люди, что и само ущелье больше не казалось темным и угрюмым.
Побывали мы и в храме. Это было гигантское строение, или, вернее, гигантское растение, оно заполняло Ущелье от стены до стены, тропа вела сквозь храм мимо алтаря, и ручей тоже протекал под его крышей. Воистину это был «собор из дерева, не знавший топора», о котором вечно твердят наши поэты.
Подняв глаза к темному своду, я обомлел, но изумление мое возросло стократ, когда я обнаружил, что над алтарем висит изображение Христа.
— Мы христиане, — сказала моя спутница. — Мы были самым восточным из христианских племен. Последователи Брахмы отрезали нас от наших единоверцев, а потом мы бежали сюда, но религию свою сохранили. Здесь мы не просто укрылись, а похоронили себя, и получилось так, что ни одна живая душа в мире наверху никогда даже не подозревала о нашем существовании. — Помолчав, она добавила: — Это дает нам блаженный покой.
Миновав храм, мы подошли к одному из примечательнейших уголков ущелья — месту, где, по словам моей спутницы, скалы плодороднее всего. Там были сооружены подмостки и лесенки, которые можно было поднимать или опускать с помощью веревок, и на этих «лесах» пасся скот. Козы, овцы и зебу расхаживали взад и вперед у меня над головой, точно каменщики на стройке, и мне стало так смешно, что я расхохотался, а моя спутница растерялась, не понимая, что тут смешного; ее оторопелый вид пробудил во мне неодолимый, безрассудный порыв, я опрокинул ее на мшистую полянку и долго целовал, необузданно, но не грубо. А потом мы, усталые, сидели рядом, и, обнимая ее, я объяснил ей, почему смеялся. Вдруг у нас перед носом шлепнулась коровья лепешка — привет от зебу, — и мы вскочили на ноги.
— Пора домой, — сказала она, боясь, как бы я не переутомился.
Я-то считал, что у меня хватило бы сил раздвинуть стены ущелья, жаль только, я не могу достать руками до обеих сразу; но я не хотел оспаривать мнение моей любимой.
Когда мы снова были в середине ущелья, она вдруг сказала:
— Сейчас придет солнце. Разденься.
Я увидел, как по всему ущелью люди высыпают из домов, оставляют все свои дела, скидывают с себя одежды и бросаются на моховую подстилку. То же сделали и мы. Никто не стеснялся, это явно было обыденно и привычно, возможно, было даже необходимым условием жизни, во всяком случае, позы у всех были разные: очевидно, каждый хотел подставить солнцу ту часть тела или орган, которые в этом больше всего нуждались.
Никогда не забуду я этой картины — залитое солнцем ущелье и все эти обнаженные люди.
Куда девался унылый сумрак! Яркость, богатство, пиршество красок производили впечатление более сильное, чем часовня Сент-Шапель в Париже и Аквариум в Амстердаме. Цвета были такие насыщенные, что казалось, в ущелье стало тесно. Может ли стать душно от красок? Похоже, стены изнемогали под тяжестью сверкающих мохнатых ковров, а капли воды между ними — висящие, падающие, стекающиеся в струйки — придавали их блестящим переливам бесконечное разнообразие. На фоне ярких мхов у самого подножия резко выделялись бледные обнаженные тела, некоторые лежали неподвижно, другие медленно поворачивались, напоминая анемоны на дне морском.
Только так эти люди встречались с солнцем — мудрено ли, что всякий, кто живет наверху, под прямыми лучами светила, казался им чуть ли не полубогом?
Колдовские чары длились недолго: голубая полоска неба еще сверкала над нами, а испарения, поднявшиеся от сырого мха, уже преграждали путь благодатным лучам, все более ослабляя их свет и тепло. Вот так и весь наш мир, подумал я, кто взглянет на него с высоты, увидит лишь расселину, на дне которой клубится туман.
Люди лежали на земле до тех пор, пока не вернулся обычный сумрак: они боялись упустить хоть мгновение света, пусть даже рассеянного. Когда мы одевались, я заметил, что они хорошо сложены, движения у них быстрые и ловкие, никаких признаков слабости, разве только бледная кожа. Они стали заходить к нам в дом, чтобы посмотреть на нас и завязать дружбу, хотя в этом, собственно, и не было нужды — дружба разумелась сама собой.
От обилия впечатлений я в этот вечер долго не мог заснуть. Снова и снова переживал я минувший день, сумбур образов и представлений одолевал мой ум и душу.
Чтобы отвлечься, я заговорил со своей подругой:
— А где живут твои родители? Почему мы с ними не встретились? — спросил я.
— Родители? Их у нас нет. Давно уже нет. Мы не живем семьями, семью упразднили в незапамятные времена.
— Как так?
— Очень просто. Пока дети не могут передвигаться, они живут у матери, но, едва научившись ходить или даже только ползать, они уходят куда хотят и у них нет какого-то определенного дома. У чьего порога они играют вечером, тот и уложит их спать. Нам все равно, что свои дети, что чужие.
— Как же мать может отказаться от своего ребенка? Ведь материнская любовь — очень сильное чувство?
— Со временем мы поняли, что это-то как раз и плохо. Мы не считаем, что кто-то должен сильно любить своего собственного ребенка, мы считаем, что каждый Должен очень любить всех детей, любить так сильно, что просто невозможно собственных детей любить еще сильнее. И так оно и есть. Всякий ребенок видит во всяком взрослом отца или мать и полностью доверяется ему. В каждом доме есть детская одежда и кроватка — для наших детей. Все дети — наши, и это наше завоевание, наше богатство.
— А брака у вас тоже нет?
— И брака нет, на любовь между мужчиной и женщиной мы смотрим точно так же. Мы считаем такую любовь несовершенной, нечистой, ибо она предполагает, что, любя одного, ты равнодушен ко всем остальным. Представь, например, что тебе бы разрешили любоваться только одним-единственным цветком, или нет, это даже хуже, потому что ведь человек гораздо красивее и значительнее цветка. Нет, таких уз у нас не существует, мы свободные люди, каждый сам по себе.
Когда я услышал это, у меня больно сжалось сердце.
— Ну а мы с тобой, после всего, что было между нами, разве мы не принадлежим друг другу?
В ответ она так нежно приникла ко мне, что стала как бы частью меня самого, и все мои сомнения рассеялись.
— К нам с тобой это не относится, — сказала она. — Я останусь с тобой. Буду только твоя.
— И ведь правда так гораздо лучше?
— Тебе не понять, да это и не нужно…
— Ладно, давай спать.
Так я вошел в жизнь племени, и чем дольше я оставался среди этих людей, тем счастливее себя чувствовал. Они были столь чистосердечны, столь чужда им была всякая мелочность, столь высоко они ценили удовольствие и радость другого, что я в конце концов пришел к выводу: народ, с которым свела меня судьба, безгрешен. С тою же великой простотой и естественностью, которая отличала их взаимоотношения, они относились и к своему труду, и к природе. Все, что они производили и чем пользовались, было так близко к природе, что сохраняло ее свойства. Выражаясь языком священников, в ничтожнейшем предмете домашнего обихода проявлялась рука всемогущего творца.
Все знания были общими, не существовало особой касты, присвоившей их себе как привилегию, и никто не делал ничего такого, что представляло бы загадку ДЛЯ остальных. Во всей жизни были чистота и ясность, с лихвой возмещавшие недостаток солнечного света.
Не буду утомлять тебя, описывая тысячи ухищрений, которые придумали эти люди, чтобы выжить в своей бездне, и в которые они постепенно посвящали меня. Что же до моей любовной связи — или моего брака, называй как хочешь, — то я не могу описать его в подробностях, меня это слишком волнует, да, собственно, и не имеет значения. Важно лишь подчеркнуть, что, на мой взгляд, я жил в полном соответствии с предназначением человека на земле. Каждый день был праздником, хоть и без неуемного веселья — тихий праздник, участники которого словно бы договорились не выставлять его напоказ.