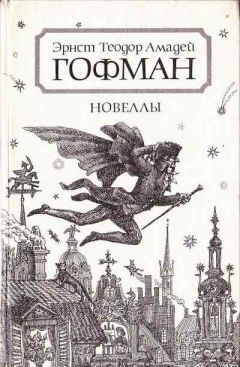Белькампо - Избранное
Но когда я стал различать звуки вполне отчетливо, я решился открыть глаза.
Они встретились с другими глазами — кто-то стоял, склонясь надо мною, но тут же отпрянул, и все голоса разом смолкли, воцарилась тишина. Я как будто был один в кольце факелов, сквозь которое ничего не было видно, разглядел я только свод крыши прямо надо мной. Похоже было, что я лежу на чем-то вроде алтаря посреди обширной пагоды. Изумление и любопытство охватили меня, и я попытался сесть, чтобы рассмотреть все получше, хоть это и причинило мне сильную боль. Я заметил, что я не один: там и сям за кольцом факелов кто-то плакал, не горько, а тихими слезами радости, как плачут только взрослые. А когда мои глаза немного привыкли к свету, я увидел, что пространство позади факелов заполнено людьми, они стояли группами, обнявшись, не сводя с меня глаз и, казалось, оцепенели от восторга и сокрушены счастьем.
Попытка сесть утомила меня, и я опустился на подушки, и тотчас та самая женщина, которую я увидел, открыв глаза, очутилась рядом. Она приподняла меня и, кажется, дала мне чего-то выпить; вскоре я опять заснул, и на сей раз это был здоровый, целительный сон.
От него я проснулся буднично, как изо дня в день просыпаешься по утрам.
Теперь я лежал в комнате, куда проникал сумеречный свет. Простыни были приятные на ощупь и хорошо пахли, но сделаны они были не из полотна. Если я не шевелился, у меня ничего не болело, боль прошла, пока я спал, мало того, я прямо-таки ощущал, что с каждой минутой набираюсь сил. Двигаться все еще было больно, но глаза видели ясно, и я вдруг вспомнил остроумную русскую пословицу «голод не тетка». Она всегда вспоминается мне, когда я хочу есть.
Очевидно, я выразил это желание каким-нибудь жестом, потому что услыхал шаги — кто-то вышел, потом вернулся, и передо мной появилась чашка удивительно ароматного мясного бульона. Никогда не забуду, как пил его. В меня вливается жизнь, подумал я, и эта фраза, как заклинание, бесконечно повторялась во мне.
Это был всего лишь бульон, но он так подкреплял меня, словно тут же претворялся в кровь. Когда я покончил с ним, меня охватило несказанное довольство. Те же руки, что поили меня бульоном, укрыли меня, я улегся так, чтобы не было больно, мне казалось, будто тело мое далеко от меня, будто оно растворилось в беспредельном пространстве всего сущего и от меня остался лишь маленький зверек, вроде сурка, который сидит на подушке и бойко зыркает по сторонам. Свет падал в комнату через окно, каких я никогда еще не видел. В промежутки между переплетенными ветками были вставлены прозрачные камушки всех цветов, какие только бывают на земле, и в мягком свете, проникавшем сквозь них, все предметы казались удивительными — такие окошки встречались в наших деревнях в стародавние времена.
Наши современные европейские окна — наглые световые пробоины, нарушающие интимную замкнутость человеческого жилья. Вот о чем я тогда подумал, и раз я был способен на такие обобщения, значит, мое сознание совсем прояснилось.
За моим изножьем висела на плетеных петлях дверь — висела чуть косо, но прилегала плотно, — а над головой у меня были большие желтые листья, уложенные рядами поверх тонких веток. Один лист отделился от остальных и свисал вниз как бы для красоты. Справа стеной служила отвесная скала, вся в разноцветных прослойках осадочных пород, накопившихся за тысячелетия. Итак, по-видимому, я все же был на земле.
У окна на плетеном столике стояла моя чашка; только теперь я разглядел, что это была выдолбленная половина большого овального плода вроде тыквы.
Посмотреть на пол я был еще не в состоянии.
Я был один, если не считать жучков, то и дело пролетавших или проползавших мимо, и я сразу же отметил одну их особенность: глаза у них излучали свет — не просто мерцали в полумраке, а бросали маленький снопик света. Такие глаза бывают у обитателей океанских глубин. Я отчетливо видел эти световые лучики, когда жучки оказывались в темных углах, и, оправившись от первого удивления, стал с большим удовольствием наблюдать за ними.
Так шло время — я попеременно то спал, то ел, то осматривался. Я был счастлив, что остался жив и поправляюсь, это чувство переполняло меня, и я не задавался вопросами. О прекрасных тихих весенних днях говорят: «Слышно, как трава растет»; вот так же и я словно бы слышал, как ко мне возвращаются силы. Мне достаточно было знать, что я в хороших руках, не все ли равно, чьи это руки? Иногда меня что-то слегка удивляло, например эти жучки, но настоящее изумление и желание понять, что случилось со мной и где я оказался, возникло лишь потом и росло по мере выздоровления.
К тому же руки, лелеявшие меня, никогда не появлялись просто так, без дела, а лишь в те минуты, когда я нуждался в их помощи — она всегда приходила вовремя. Я тогда не мог думать ни о чем другом, и в такие-то мгновения только и появлялись добрые руки. А когда мне ничего не требовалось и я спокойно мог осматриваться и размышлять, я был снова один.
Я много думал, мне надо было наверстывать упущенное. Быть может, эта встряска как раз и поставила все на место, исправила сдвиг у меня в мозгу? Прежний я казался мне кем-то посторонним. Я словно бы впервые глядел на вещи: смотрел на циновку и видел, как ее плетут, как растет камыш и как его срезают, видел солнце над камышом и зверька, грызущего стебель, и не только камыш, но и весь зеленый наряд земли и весь людской труд на ней вставал за изготовлением циновки. Я мог часами разглядывать свои руки, как, впрочем, и всякий другой предмет, и каждый раз удивлялся целому миру, который являет себя в непритязательной единичной вещи. Припомни, часто ли бывало с тобой, чтобы ты битый час разглядывал один и тот же предмет? Наверное, никогда. Это потому, что мы вечно чего-то хотим. Человек слишком многого хочет, и оттого ему вечно некогда. Но я стал другим, мой механизм желания разбился вдребезги при падении.
Как сказал бы набожный крестьянин, на меня снизошла благодать. Благодать снизошла и на дух мой, и на тело, день ото дня прибывали силы, день ото дня смелела мысль, и вот уже она начала обращаться к непонятному миру, окружавшему меня.
Однажды я проснулся ночью, но притворился, будто продолжаю спать. Я подсматривал сквозь смеженные веки и наконец-то увидел ее — ту, что ухаживала за мной и, стало быть, даже ночами бодрствовала у моей постели. Она сидела у стола и при свете лампы занималась каким-то женским рукодельем, она сидела прямо, склонив лишь голову над работой, совсем еще молодая. Иногда ее руки и лицо попадали в тень, и тогда они выделялись светлыми пятнами — значит, она была белой расы, и у меня мелькнула мысль, уж не пролетел ли я земной шар насквозь и не очутился ли в Европе. Но нет, во всем, что меня окружало, не было ничего европейского.
Когда она наклоняла голову на фоне лампы, ее волосы обрамляло золотое сияние — она была блондинка.
Рукоделие ни в одной части света не занимает внимания женщины целиком, всегда остается место для посторонних мыслей. Та, что сидела передо мной, думала о своем, это было видно по ее движениям; один раз она подняла голову и повернулась в мою сторону, но смотрела ли она на меня, я не разобрал.
Жучки сейчас излучали более сильный свет, чем днем, они кружились или садились поблизости от женщины и бросали на нее яркие пятнышки света. Как лучи маяка оживляют ночной пейзаж, выхватывая из мрака то одно, то другое, так и жучки высвечивали то ее лицо, то волосы, то руки; а еще это было похоже на игру в прятки, такую приятную и увлекательную, что я забыл всякую осторожность и стал смотреть во все глаза, и женщина представлялась мне бриллиантом, вспыхивающим разными гранями.
Никогда в моей прежней жизни я не разглядывал женщин внимательно, да вряд ли и стал бы, не случись со мной всего этого, но уж теперь я взял реванш и налюбовался в свое удовольствие. То я представлял себя совсем маленьким, так что она по сравнению со мной становилась огромной, как… Европа; то воображал, что свет, падающий на нее, — это и есть я сам, я ласкаю ее в благодарность за спасение моей жизни, а сердце у меня тает — может быть, это и есть любовь? Ты знаешь, что такое любовь? Я — нет, знаю только, что тогда я чувствовал, как мое сердце то ли готово выскочить, то ли тает.
И вдруг она подняла глаза от работы и посмотрела на меня. Наши взгляды встретились, она сначала испугалась, потом, рассмеявшись, подошла ко мне, подоткнула одеяло и сказала в самое ухо на тогда еще непонятном мне языке:
— Ну что ты? Спи.
Теперь я быстро пошел на поправку. Силы и мужество вливались в меня неудержимым потоком.
Она часами сидела у моей постели и учила меня своему языку. Как я узнал позднее, происходил он от языка племени зендов и был довольно сложен. Но в ее устах все звучало для меня просто и понятно.
Я делал быстрые успехи, и скоро она могла рассказать мне все.