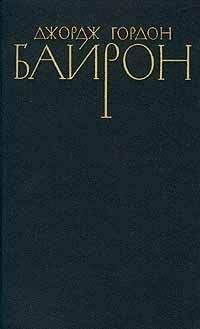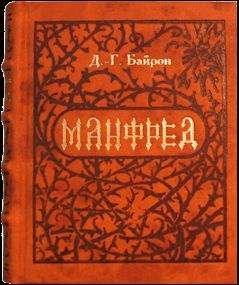Борис Шахов - Черная шаль с красными цветами
- Слава тебе, господи… Ожил, ожил раб твой Федор, слава тебе, господи, во веки веков…
Она еще поклонилась и еще что-то прошептала. Потом сказала молодой:
- Налей горячего супа Феде, только совсем жидкого, без приправы, бульончику нацеди.
Та бросилась к печке и с шумом отодвинула печную заслонку. Миска с бульоном поставлена была рядом с изголовьем, и Федор вдохнул вкусный запах супа. Старая села рядом, приподняла ему голову на подушках повыше и осторожно начала кормить бульоном, вкуснее которого в жизни своей он не ел. Внутри у него суп горячей волной разливался по всем жилам, наполняя их радостью жизни, только недавно потерянной и теперь обретаемой вновь. Волна жизни докатилась до самых кончиков пальцев; он всего-то сделал несколько глотков и так обессилел, что пришлось снова закрыть глаза и провалиться в сон. Так мало осталось у него сил, хватило только увидеть нутро избы, хозяев со знакомыми лицами да попробовать супу. А будто неделю прожил…
Он спал спокойно, не следя во сне за временем, как бывало это в страду. Он долго не просыпался, хотя иногда выходил из сна и впадал в полудрему - и тогда чувствовал: у него нигде ничего не болит, только тело какое-то битое, это, наверное, долгая дорога через болота, совместная их дорога с Паршуковым, сказывается. Но веки были неимоверно тяжелые, неподъемные, такие тяжелые, что Федор снова засыпал, не давая себе труда открыть глаза еще раз.
Сколько он спал, Федор не знал. Когда проснулся, в избе стояла плотная темень, только в углу перед печкой горела лучина и трещали дрова в печи - такой милый, такой до боли сердечной знакомый треск. У топившейся печки опять были только двое, те самые, видно, мать и дочь. Младшая выходила с ведром в одной руке и фонарем в другой. Федор догадался: скотину обихаживает. Она возвращалась, они негромко переговаривались с матерью по всяким простым домашним делам. Федор ловил звуки и по ним легко представлял, кто что делал. Вот поскребли дном чугуна по поду печи. Потом ухват стукнул. Слышно шуршание, это крупу отвеивали, да. Потом начали прихлопывать, мягкие такие шлепки… Это каравай выхлопывают… Точно, вот и запах хлеба пошел по избе, поплыл, закачался в голове и ноздрях… Ну да, конечно, ведь они с Паршуковым сюда и шли за хлебом, здесь же не голодают, эти деревни много южнее, сюда северный заморозок не достигает… Погромыхивала хлебная лопата. Потом цедили молоко. Потом начало помаленьку рассветать, и, повернув голову покруче, Федор увидел в переднем углу икону пресвятой Богородицы. Богородица-матушка смотрела прямо в глаза Федору, рабу божию Туланову, и он ответил ей благодарным взглядом и внутренним исповедальным голосом: «Всем сердцем и всей душой благодарствую… Слава тебе, господи, не дал мне помереть, с Ульяной не разлучил до срока… Погоди чуток, вот встану когда - свечи поставлю…»
Он закрыл глаза и недолго полежал так.
- Смотрю, глаза закрыты, а губы шевелятся,- услышал он над собой. И снова открыл глаза. Увидел молодую девушку. Это она произносила над ним слова:-Я думала, может, ты опять бредишь? А голова сегодня не горячая… Ты проснулся?
- Ага, - сказал Федор, ему было неловко лежать перед незнакомым человеком в чужой избе, где и он никого не знает, и его - никто.
- Мама, Федя опять проснулся,- радостно сообщила девушка. И мать подошла. Вытерла руки о передник, потрогала лоб Федора.
- Ну, слава богу, выжил… Налей супа в миску. Семь ложек налей. Один бульон. Остуди и напои.
Его опять напоили супом, и жизнь сразу преобразилась, в избе стало светлее. Федор почти все понимал, что было теперь вокруг, но еще не все мог вспомнить из того, что случилось раньше.
- Сегодня… какое число? День какой?- спросил он у девушки.
- Шестое сегодня, января. Завтра Рождество,- улыбнулась она.
- Как… Рождество… откуда?
- Так… шестое уже… Ты ведь пять недель бьешься со смертушкой, Федя. Или не помнишь?
- Не очень,- признался он, потому что радость выздоровления заслонила в нем всю прошлую печаль.
- Тебе рассказать?- спросила она, и он кивнул.- Мама, можно Феде рассказать про все? Или рано?
- Коли хочет знать… расскажи,- разрешила мать.- Он теперь на поправку пойдет, ожил мужик, слава тебе, господи, ожил…
И девушка поведала Федору все по порядку: и как он постучал ночью, и как она испугалась, разбудила мать, как они не сразу открыли, а когда открыли - на крыльце человек лежит, не шевелится, беспамятный, и как затащили его в избу, зажгли огонь да испугались: глаза закрыты, весь щетиной зарос, губы опухли и голова в крови; потом, глядим, на улице мороз трескучий, а человек в сапогах, думали, ноги обморозил, еле сапоги стянули, ноги растерли, нет. вроде ничего, обошлось; потом лицо обмыли, раздели, уложили, а ты все без сознания, бредишь, мечешься, затихнешь ненадолго, мать спросит, как тебя зовут-то, милый, и ты, глаз не открывая, ясным голосом так и ответишь - Федор я, потом еще Ульяну все звал, не знаю, кем она тебе приходится, ребеночка какого-то поминал, которого ты не видел, какую-то рысь хвалил, хорошо, говорил, что она тебе встретилась, что свою шубу тебе отдала,- ну прямо как колдун какой или знахарь…
- Мать моя летом травы собирает, лечебные, чудодейные, ты маме спасибо скажи, она трав заварила и рану твою обмывала этим настоем, пока доктор пришел…
- Какой доктор?
- Настоящий, в халате. Его большой командир прислал, он и сам приезжал, но ты в горячке лежал, не узнал его, а он тебя признал, мы, говорит, старые знакомцы…
- Нина, ты повременила бы, устал, поди, Федор,- отозвалась от печки мать.
«Нина»,- повторил про себя Федор.
- Ладно, Федя, отдохни, я потом расскажу,- шепнула девушка.
- Нина, я не устал, ты говори, только тихонько, а то ушам больно…
- Тогда я шепотом,- кивнула Нина, не терпелось ей выложить Федору его историю.- Это мы потом узнали, что вас расстреливали, да не дорасстрелили, они на другой день по деревне шастали, все крайние дома обошли, один, говорят, живой остался. Мы испугались, подняли тебя на печку, поукрывали чем могли, я говорю маме: ты, мол, сама к нему подымись и постанывай, будто болит чего: и его прикроешь, и нас спасешь, вдруг не простят милосердия нашего?.. Ладно, и к нам пришли, трое, я еле живая, до того страшно. Из тех троих один большой командир был, из Покчи приехал, он твои бумаги читал. Ну это позже узнали, а тут вошли трое, мать на печи стонет; спрашивают, а я трясусь вся, они с ружьями, с наганами… А мы как тебя прятали, про остальное, дуры, забыли, одежда твоя под лавкой осталась, ну, один и увидел… Нашли тебя на печи, мать плачет, я плачу - а ну как и нас порасстреляют?.. Покчинский командир подошел, посмотрел на тебя и сказал: да это же Федя Туланов, мой старый знакомец. И приказал доктора позвать и все сделать, а тебя не трогать и лечить, выхаживать. Даже часового поставил… Доктор говорит: рана не страшная, но крови потерял много и горячка - если сам сильный и сердце сильное, может, и выкарабкается, а если слабый, то уж помрет, ничем не поможешь… Как очнется, дайте, говорит, чистого бульону, но сразу много-то не кормите, ну, это мама и сама знает, она тебя еще травным настоем поила, с ложки… Тот большой командир еще приезжал, возле тебя сидел, хотел поговорить, позовет, позовет тебя: Федя, мол, помнишь, как мы шестами толкались? Ты глаза откроешь, смотришь на него и молчишь, и глаза неживые, не узнаешь никого. Командир говорит: никакой он не шпион, просто Федя Туланов, коми охотник с очень добрым сердцем, так и сказал - про сердце. И еще много чего говорил, будто ты матрос, будто все это глупая случайность революции, или как там, не помню, и приказал тебе оставить красноармейский паек, денег немного и еще две бумаги велел передать, когда выздоровеешь.
Нина встала, из-за иконы достала два листочка, прижала к груди, заглянула Федору в глаза:
- Сейчас будешь читать или потом, как отдохнешь?
Федя протянул свою неподъемную руку: сейчас. Он долго разворачивал первый листок, руки не слушались, буквы прыгали, никак не желая собраться в понятные слова, в прямую строчку:
«Здравствуй, дорогой Федя! Чрезвычайно взволнован нашей неожиданной встречей да еще в такой трагической обстановке. Очень, очень жаль, но не могу задержаться и подождать, когда ты поправишься: надо бить и гнать белую сволочь Колчака. Тебе помогут стать на ноги - я дал необходимые распоряжения. И мы с тобой еще поохотимся в твоих лесах. Глубоко сожалею о случившемся, Федя. Усть-Сысольск снова в наших руках, твои слова там полностью подтвердили. За нарушение революционной дисциплины виновники наказаны по всей строгости революционного закона. На отдельном листе я написал тебе справку, ты ее предъявишь в свой лесозаготовительный округ, чтобы с тебя списали реквизированную сумму. Встретимся еще! Жму твою руку. Бывший политссыльный Илья Яковлевич Гурий, командир Бугурусланского Красного полка.
10 декабря 1919 года».
Такая была записка. Федор немного полежал с закрытыми глазами - устал сильно. Потом прочитал еще раз, медленно, взвешивая каждое слово. Вот кого богородица послала ему в главные спасители… Двенадцать лет прошло, как они с Ильей бежали по реке… Федор уронил руки поверх одеяла. Нина тихо встала и отошла к матери. Федор ничего не сказал ей, как прочитал листок. Наверное, такая важная бумага, ишь какой человек ее написал, весь в ремнях, при нагане, в папахе - строгий.