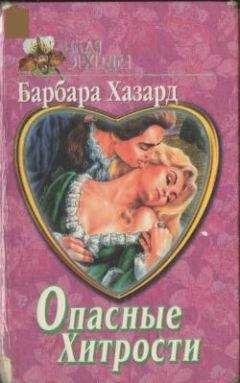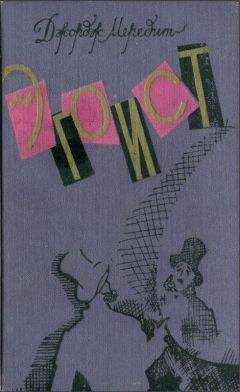Арман Лану - Майор Ватрен
Франсуа хотел сказать что-то, но сдержал себя. Кризис миновал.
Эберлэн застенчиво улыбнулся.
— Как бы ни было, спасибо, — произнес он.
Субейрак задумался. То, что сейчас произошло с Эберлэном, всего лишь лихорадочный порыв, внезапное побуждение. Но через несколько минут, когда артиллерист свяжется со своим человеком, возникнет действительная опасность. Кто знает, что… Это было бы низостью по отношению к Шамиссо, это значило бы оказаться в недостойном положении. Субейрак вел опасную игру. «Может быть, просто для того, чтобы самому себе доказать, что я не приспособленец», — подумал он.
Лес кончался. Они прошли около четырех километров и теперь поднимались на вершину песчаного холма. До них доносился протяжный гул, который им вначале показался зазыванием ветра в лесу. Молочно-белое сияние окутывало сернистую желтизну дюн. Растительность здесь была уже иной. Воздух наполнился запахами рыбы и йода. Франсуа забыл про Эберлэна, побежал и внезапно увидел серое море, белую пену под голубым, холодным небом, гневное Балтийское море и чаек. Он бросился плашмя на песок и, подперев руками подбородок, смотрел вперед широко раскрытыми и уже подернутыми туманом глазами.
Перед ними, приблизительно в четырехстах метрах, море в пенистых гребнях билось о невысокие рыбачьи дамбы, изъеденные солью и ракушками. Вдали, сильно раскачиваясь, шел пароход. Волны с глухим шумом обрушивались на берег.
— Господа, мы можем здесь постоять немного, — сказал Шамиссо. — Вы, наверно, проголодались, гуляя.
Они достали продовольствие из сумок. Всем захотелось есть, особенно Вану, он даже побледнел от голода.
— Не беспокойтесь о пище, — сказал зондерфюрер. — Вы сможете купить в Лауэнмюнде все, что захотите. Торговцы примут там ваши лагерные марки.
Дело в том, что часть своего жалования они получали лагерными марками. У пленных было полно этих бумажек, на которые в лагерной каптерке не продавали ничего, кроме пива, иногда нерационного вина или картофеля. Вначале немецкие торговцы неохотно принимали эти бумажки. Теперь, когда война затягивалась, лагерные марки стоили не меньше обычных, и только запрет ограничивал торговлю с военнопленными. Вскоре немецкие торговцы стали даже отдавать предпочтение «французским» маркам!
Шамиссо поставил перед ними на камень, выступающий из песка, три банки мясных консервов, чтобы скрасить их завтрак. Он ел, держа хлеб кончиками пальцев. Потом, сев и крепко обхватив колени руками, зондерфюрер стал меланхолически любоваться морем того же изменчивого цвета, что и его глаза.
Справа, в двух километрах от них, виднелся городок Лауэнмюнде с остроконечной красной колокольней протестантской церкви. Вдоль берега тянулись виллы дачников из Штеттина, Грейфенберга, Арнсвальде. По асфальтированной, посыпанной песком дороге прошла женщина с двумя детьми в ярко-зеленых платьях. Она махнула им рукой, ефрейтор крикнул ей в ответ какую-то сальность.
Каватини незаметно вытащил из кармана листок с рекламой молочной фирмы, на которой был изображен маленький ребенок. Потом он снова поднял голову и сложил рекламу.
— Это похоже на Д-д-дюнкерк, — заметил он. — Только здесь холоднее.
Субейрак знал, что означала эта реклама. Жена Тото родила в первые месяцы его плена. Именно тогда Тото вырезал эту страницу из какого-то иллюстрированного еженедельника. Конечно, впоследствии почта для военнопленных доставила ему фотографию его малыша, но она не смогла разрядить электрического заряда, содержавшегося в рекламе молочных продуктов.
От моря и ветра становилась холодно. Они снова двинулись в путь, идя в направлении поселка, одни по дороге, другие по влажному песку. По мере того как они приближались, приморский поселок, казалось, становился оживленнее. Они видели рыбаков, женщин, детей, небольшую гавань. Ефрейтор куда-то исчез.
В сопровождении Шамиссо они зашли к аптекарю, в скобяную лавку, в колбасную — на витрине не было ничего, кроме бумажных цветов. Заказали краски, картон. Парень из продовольственной комиссии, к своему восторгу, договорился об оптовой закупке сельди. Им казалось, что они находятся в необыкновенном мире, что они — туристы, попавшие в странный город, где можно достать провизию, можно набить карманы табаком. Меньше всего удалась торговая операция с вином — достали лишь две бутылки Химбервейна на каждого.
— Химбервейн — малиновое вино, — объяснил им с улыбкой Шамиссо. И так как они состроили гримасу, немец согласился: — Я предпочитаю белое. Не думайте все же, что в Германии нет вин. У нас есть отличные мозельские и рейнские вина. А сейчас появилось и токайское.
Вспышка «винного» патриотизма не убедила их. В этом вопросе они проявили непримиримость. Невозможно убедить француза, что хорошее вино может быть не только у него дома.
В поселке имелась небольшая ратуша XV века с пилястрами и одноцветными панно с орнаментом на мифологические темы, изображающие мощных женщин. На площади перед ратушей находился фонтан с топорными фигурами сирены и дельфина. Шамиссо посмотрел на часы.
— Господа, даю вам час для прогулки по вашему усмотрению. Через час встретимся в гавани и пойдем назад.
И зондерфюрер удалился мягкой эластичной походкой.
— У него, наверно, бабенка здесь, — сказал Жийуар.
Капитан из продовольственной комиссии и Тото — ответственные по столовой — решили подойти к вопросу о вине со всей серьезностью и отправились в Gasthaus[43]. Эберлэн посмотрел на Субейрака и Вана. Субейраку не хотелось оставлять артиллериста одного. Чем позднее становилось, тем сильнее опасался он внезапного кризиса у артиллериста, одержимого, с одной стороны, склонностью военного к предварительной подготовке, и с другой стороны — бесом активности. Вану что-то почудилось. Он не любил Эберлэна. Поэтому он не захотел оставить Субейрака. Эберлэн неподвижно стоял перед фонтаном.
— Ты не думаешь, что это ловушка? — спросил он, наконец, у Субейрака.
— Какая ловушка?
— Он сделал вид, будто уходит, а сам хочет посмотреть, что я предприму.
— Нет, — сказал Субейрак, — по-моему, ему наплевать на это.
— Но ведь такая у него должность — не давать пленным убегать. Это его ремесло — содержать целую сеть доносчиков, чтобы предупреждать побеги. И если он уже более двадцати месяцев держится в лагере — значит, он неплохо справляется со своим делом и процент побегов в лагере невелик.
— Да, — машинально ответил Субейрак.
— Да, да, само собой разумеется, что да! Ты все-таки иногда удивительно наивен! Ну ладно, мне надо сказать тут кое-кому два слова. Вы пойдете со мной? Втроем будет не так подозрительно.
С видом гуляющих они направились к церкви. Прогулка напомнила Субейраку его первые увольнительные в Эльзасе, когда он был еще новобранцем. Дойдя до угла узкой улицы, выходящей к морю, они миновали кондитерскую и свернули в переулок. Там они остановились, делая вид, что любуются старым рыбачьим домом, стены которого были покрыты шифером, предохраняющим от морских брызг. Вдруг они обнаружили, что Эберлэна с ними нет.
— Он даст тягу, — заметил Ван.
— Пока не могу сказать.
Они подождали с четверть часа. Вокруг не было никого, кроме ребятишек, глазевших на них.
Теперь с Балтики дул злой, соленый ветер и небо покрывалось тучами. В доме приоткрылась дверь, кто-то сказал несколько слов по-французски. Эберлэн вышел, стараясь быть незамеченным. Франсуа увидел молодую черноволосую женщину с подрумяненными щеками и накрашенными губами — в Германии это считалось редкостью и вызывало неодобрение. У нее было смеющееся лицо южанки, необычное среди женщин с волосами соломенного цвета, живущих в этом полупольском крае.
Эберлэн положил каждому в сумку пакет с каким-то жиром — масло, маргарин? Они пошли, резкий ветер дул им в лицо. В Gasthaus они застали остальных — перед ними на столе стояла миска жареного ячменя и стаканы с можжевеловой водкой. Тото сиял: он раздобыл где-то несколько бутылок какого-то нелепого вина Шпэтбургундер, с баденской этикеткой на бутылках из-под эльзасских вин — золоченое рельефное изображение обезьяны.
— В этих бутылках намешано всего п-п-помемногу, — заметил Тото.
В пустой общей зале было жарко, в углу гудела большая печка, выложенная фаянсовыми плитками.
Через четверть часа они шагали в Темпельгоф. Фон-Шамиссо шагал впереди, ефрейтор замыкал шествие. Эти запоздалые меры предосторожности свидетельствовали о том, что, предоставив им такую свободу, Шамиссо превысил свои полномочия. Они чувствовали себя разбитыми, усталость овладела ими, едва они увидели лагерь.
Они миновали ферму, которая виднелась из окон «штубе» 17-4. Прямые линии почерневшего деревянного строения четко вырисовывались на фоне равнины. Крыша была покрыта новой черепицей; четыре серебристые березы как бы отмечали границы возделываемой земли, окруженной песком. Овца пощипывала пучки жесткой травы. Возле фермы работала женщина могучего телосложения, со славянскими чертами лица, выступающими скулами и узкими глазами. На ней была надета цветастая юбка с корсажем, на плечах — темно-красная косынка, волосы повязаны пестрым платком. Она держала за узду лошадь с низко опущенной головой, вроде тех, что тянут бечеву по реке.