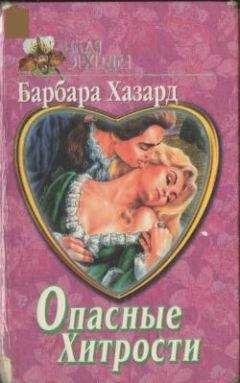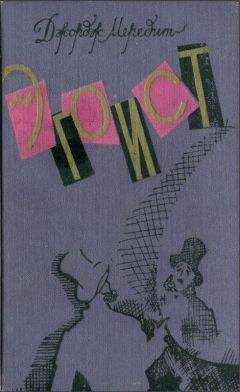Арман Лану - Майор Ватрен
В нем чувствовалось то соединение меланхолии и улыбки, та утонченность, которые отличают порой немецкий романтизм, уже исчезающий в наши дни. Французы с недоумением обнаруживали эти свойства у людей в мундирах победителей. В тот первый раз, к крайнему удивлению склонного к недоверчивости Субейрака, Шамиссо говорил с ним лишь о Париже, о современных французских поэтах и о Милоше[40]. Субейрак слышал его голос — чуть металлического тембра, но без сколько-нибудь заметного акцента, Шамиссо читал по-французски стихи:
Одурманены грязным дождем, мертвецы
На погосте лежат Лофотена…
Это было совершенно неожиданно — ведь при других обстоятельствах он мог бы испытывать дружеские чувства к этому человеку. Тогда же, в конце разговора, он узнал, что отец зондерфюрера был промышленник из Пруссии, а мать литовка, из Курляндии. Вот почему немецкий офицер любил Милоша. Кроме того, по какой-то боковой линии он находился в дальнем родстве с автором «Человека, потерявшего свою тень»[41]. Это тронуло Франсуа, обожавшего эту непризнанную во Франции книгу.
Шамиссо сказал:
— Если атмосфера прояснится — за что я не отвечаю, — то надеюсь, что смогу вам показать мою Балтику.
Они долго говорили о символизме, о «Человеке, потерявшем свою тень», потом Шамиссо в смущении переменил тему разговора, так как она показалась ему слишком личной. Они вспомнили скульптора Антуана Бурделя, восхищавшего Шамиссо, а также Майоля, которого он глубоко почитал. Единственный раз в их беседе прозвучала политическая нотка, когда зондерфюрер процитировал фразу из Арно Брекера, «гения» национал-социализма, но и то он упомянул о нем скорее в плане личной дружбы. Речь не зашла ни об англичанах, ни о коммунистах, ни о еврейско-марксистской живописи, ни, тем более, о «негрификации» Франции.
После этого необычного собеседования Франсуа с изумлением узнал, что поддержка со стороны Шамиссо в отношении театрального барака обеспечена и что он берется добиться соответствующего разрешения у немецкого коменданта Темпельгофа, адмирала фон-Мардрюка.
Второй разговор произошел во время вступления немцев в Россию, в июне 1941 года. Шамиссо собрал примерно тридцать офицеров, входивших в кружок Петена, и изложил им причины и цели ведущейся войны. На сей раз он показался другим человеком, более твердым и энергичным. В нем заговорили решимость и воля. Это было его второе лицо. Субейрак подумал тогда о Жироду и «Зигфриде»[42] и сделал вывод, что война против англичан и французов, в отличие от войны на востоке, в глубине души не одобрялась зондерфюрером.
Третья беседа произошла, когда Франсуа отказался сотрудничать в немецком лагерном журнале «Единение». Он подумал тогда, что это будет их последняя встреча.
Шамиссо сказал на своем изысканном французском языке:
— Господа, я понимаю, что пленный думает о побеге. Но в данных обстоятельствах это было бы слишком легко и слишком неизящно, не так ли? Я даже не прошу, чтобы вы дали слово.
Он вынул из кармана белую пачку сигарет «Юно» и предложил закурить. Субейрак краем глаза следил за Эберлэном. Образцовый беглец после секунды колебания взял сигарету.
— Я узнаю вас, господин Эберлэн, — сказал фон-Шамиссо.
Спокойной рукой немецкий офицер поднес к сигарете артиллериста свою зажигалку. Губы Эберлэна чуть заметно дрожали.
— Господа, — продолжал зондерфюрер, — отсюда до Лауэнмюнде семь километров, — а мы идем в Лауэнмюнде, я вам обещал Балтику, господин Субейрак. Здесь пейзаж того же типа, что и в Литве Милоша…
«После семимесячной зимней летаргии небо внезапно пробуждается при виде весенней красы. Приходите, я поведаю вам о дивном, туманном, журчащем крае…».
Он вдруг оборвал цитату и добавил с приветливой улыбкой:
— Если вам немного повезет, вы вернетесь домой с подснежниками.
И перестав обращать на них внимание, он большими шагами направился к шумевшему лесу.
Для людей, живущих месяцами взаперти, это была чудесная прогулка. Обнажившаяся, местами темная, покрытая валежником земля сменялась оранжевыми песчаными прогалинами, в которых увязали их башмаки. Офицеры поднялись на вершину холма, закрывавшего от них море. Зима сморщила листья папоротника, искривила его стебли. Среди зарослей вереска порой виднелись мальвы в своем вдовьем полутрауре и кочки вялого серого мха. Сухие ветки и иглы хрустели под ногами так тихо и приглушенно, что возникало сомнение, есть ли что-нибудь под ногой. Офицеры шли по фиолетовым тропинкам, мимо изогнутых, словно бронзовых ветвей, пробираясь через лесной мир, окрашенный в рыжие, серые, красные и белые цвета.
Время от времени они замечали каких-то неизвестных зверьков, пробегавших у их ног.
— А ты — ты его понимаешь? — спросил Субейрак.
— Кого? Шамиссо?
— Нет. Майора.
— Ах, да! — сказал Ван. — Что касается истории с солдатом в Вольмеранже, то право не знаю… Но вот сдачу батальона в плен — этого я тоже никогда не мог понять. Знаешь, Ватрен был до 1935 года капитаном. Звание майора он получил с опозданием, по-моему, в 1937 году. Он никогда не отличался честолюбием.
— В мирное время он был жестковат, — заметил Субейрак. — Мне рассказывали мои солдаты.
— Да, Ватрен ненавидел 1936 год, забастовки, Народный фронт. Все то, что ему казалось слабостью, пацифизмом, антимилитаризмом.
— Вот именно тут я и перестаю понимать. Такой убежденный милитарист, кадровый офицер, должен был бы идти до конца… Или же, наоборот, разбить нас на маленькие группы и постараться их вывести, а потом собрать. Тут есть что-то необъяснимое… Может быть… Конечно, с его сыном… Мне иногда кажется, что именно это его грызет.
Ван покачал головой. Да, может быть, какой-то нравственный недуг разъедал майора.
— И вот еще что, — заметил Франсуа. — Мне надо поговорить с Эберлэном. Этот тип меня беспокоит.
— А зачем ты его взял с собой? — резонно спросил Ван.
Франсуа ответил неопределенным жестом. «Раскладной» артиллерист вместе с Тото пошел вперед. Жийуар, офицер из продовольственной комиссии, вырезал себе палку и шел крупными шагами, подняв голову, раздувая ноздри.
Терпкий запах хвои ощущался здесь резче, чем в лесах Франции. Деревья, отражающиеся в стоячей воде, покрытой гниющими листьями, пушистые молодые сосны, прогалины, дюны, поросшие можжевельником, — все отражало задумчивую печаль этого скудного края.
Субейрак остался вдвоем с Эберлэном.
— Какой актер этот твой Шамиссо! — сказал образцовый беглец. — Вот негодяй!
В его голосе звучал оттенок восхищения. Шамиссо не давал ему покоя!
— Ты легко называешь людей негодяями, — заметил Субейрак.
— Я военный в четвертом поколении, — возразил Эберлэн.
Свежий воздух шел ему на пользу. Он казался не таким одержимым, не таким язвительным и раздраженным. Спина его распрямилась, в движениях чувствовалась сила. Он сорвал верхушку папоротника, растер его и с наслаждением вдыхал его запах.
— Субейрак, — сказал Эберлэн. — Субейрак, в отношении твоего Шамиссо есть две возможности. Либо он действительно франкофил, каким он хочет казаться, и тогда я снимаю перед ним шляпу. Либо он не тот, за кого себя выдает, и весь его романтизм — подделка. В этом случае я восхищаюсь им еще больше, потому что это очень ловкий прием.
И он задумчиво добавил:
— Насколько я знаю, во французской армии никогда не было таких званий. Политические комиссары — это не то. Надо спросить у Альгрэна.
Ни Шамиссо, ни ефрейтора не было видно. Как поразительно это щемящее чувство свободы!
— Послушай, Субейрак, — вдруг сказал Эберлэн, — зачем ты предложил мне пойти? Когда мы разговаривали в последний раз, кажется я выругал тебя.
— Кажется, так.
— Я даже назвал тебя сволочью!
— Хуже. Ты сказал, что я приспособившийся.
— Зачем же ты меня потащил сегодня?
— Я предполагаю, что тебе, может быть, нужно восстановить твои связи в поселке. Раз представилась такая возможность, я был не вправе лишать тебя ее. Даже если я приспособившийся.
— Ну, а кроме того, ты, может быть, изменил свою точку зрения?
— Нет, — ответил Субейрак.
— Ты возражаешь против подкопа, но сам, лично, ты готов помочь мне?
Эберлэн озирался по сторонам, точно заяц. Субейрак почувствовал, что, пожалуй, сделал глупость, взяв его. Пресловутая расчетливость Эберлэна была напускной, за ней скрывался простой инстинкт самосохранения. Он убегал от опасности так же, как удирает заяц.
Франсуа хотел сказать что-то, но сдержал себя. Кризис миновал.
Эберлэн застенчиво улыбнулся.
— Как бы ни было, спасибо, — произнес он.
Субейрак задумался. То, что сейчас произошло с Эберлэном, всего лишь лихорадочный порыв, внезапное побуждение. Но через несколько минут, когда артиллерист свяжется со своим человеком, возникнет действительная опасность. Кто знает, что… Это было бы низостью по отношению к Шамиссо, это значило бы оказаться в недостойном положении. Субейрак вел опасную игру. «Может быть, просто для того, чтобы самому себе доказать, что я не приспособленец», — подумал он.