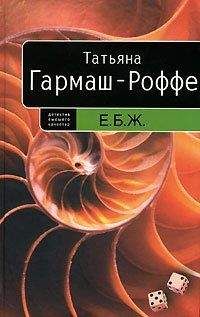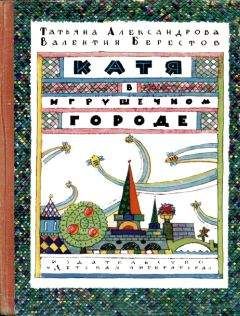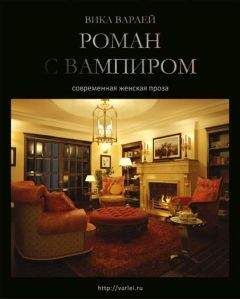Джейн Остен - Разум и чувство
Люси была на седьмом небе от счастья, видя, как радушно ее принимают. А ее сестре для полного блаженства не хватало только шуточек, обращенных в адрес ее и доктора Дэвиса.
Обед был великолепный, слуги многочисленны, и все говорило о несомненной любви хозяйки дома к показной роскоши, так же как и о возможностях хозяина потакать жене. Вероятно, в Норленде действительно проводились всевозможные работы, для выполнения которых его владельцу чуть было не пришлось с убытком продавать ценные бумаги, но, слава богу, до этого не дошло и у него нашлось несколько тысяч фунтов наличными, чтобы заплатить за новые земли. Однако ничто не свидетельствовало о безденежье хозяина, на которое он сетовал в разговоре с сестрой, так же как и о необходимости ограничивать себя хотя бы в чем-то. Бедностью в этом обществе отличалась только беседа, но зато уж ее не заметить было невозможно. Джон Дэшвуд не мог сказать ничего, что стоило бы послушать, а его супруга и того меньше. Впрочем, в этом не было особого позора, поскольку то же самое можно было сказать и о подавляющем большинстве их гостей. Всем им, чтобы стать приятными в общении, не хватало либо ума, причем как природного, так и приобретенного, либо духовности, либо страстности.
Когда после обеда дамы удалились в гостиную, эта нищета стала особенно очевидной, поскольку джентльмены все же вносили в беседу известное разнообразие, касаясь то политических событий, то проблем огораживания, то выездки лошадей. А дамы все время, пока не подали кофе, живо обсуждали лишь один вопрос: они сравнивали рост Гарри Дэшвуда и Уильяма, второго сына леди Мидлтон, которые были почти ровесниками.
Если бы присутствовали оба мальчика, вопрос решился бы за несколько секунд, так как их можно было поставить рядом и все сразу же стало бы ясно. Но в наличии имелся только один Гарри, поэтому могли быть высказаны только предположения. Всем присутствующим было предоставлено право твердо придерживаться собственного мнения и высказывать его сколько угодно раз.
Партии распределились следующим образом.
Две матери, хотя каждая была абсолютно убеждена, что ее сын выше, любезно высказывались в пользу другого.
Две бабушки, столь же пристрастные, хотя и более искренние, утверждали каждая, что выше, бесспорно, ее собственный отпрыск.
Люси, которая одинаково стремилась угодить и тем и этим, считала, что оба мальчика совершенно одинаковы, причем удивительно высоки для своего возраста. Ее сестра с еще большей горячностью также делила пальму первенства между обоими мальчиками.
Элинор один раз заметила, что, по ее мнению, Уильям несколько выше, чем нанесла глубочайшее оскорбление миссис Феррарс и Фанни, и не считала нужным отстаивать свое мнение по не интересовавшему ее вопросу. Марианна, когда дамы воззвали к ее мнению, привела в величайшее возмущение всех сразу, заявив, что ничего не может сказать, поскольку никогда над этим не задумывалась.
Перед отъездом из Норленда Элинор с немалым искусством написала для невестки две картины. Они были вставлены в рамы, доставлены в дом и теперь украшали гостиную. Именно на них упал взгляд Джона Дэшвуда, когда он сопровождал джентльменов в гостиную, и они были тут же вручены полковнику Брэндону, чтобы тот имел возможность ими полюбоваться.
– Это сделала моя старшая сестра, – сообщил он. – Человек, обладающий столь тонким вкусом, как вы, непременно оценит их по достоинству. Не знаю, доводилось ли вам видеть ее картины прежде, но, по общему мнению, она рисует очень хорошо.
Полковник, хотя и не преминул заметить, что слабо разбирается в живописи, искренне похвалил картины, как, впрочем, тепло отозвался бы о любой вещи, созданной руками мисс Дэшвуд. Тем самым он возбудил общее любопытство, и произведения Элинор подверглись придирчивому изучению. После того как они удостоились любезной похвалы леди Мидлтон, миссис Феррарс, не знавшая, что это работа Элинор, также пожелала взглянуть на них. Фанни передала картины матери, предусмотрительно напомнив, что они выполнены мисс Дэшвуд.
– Гм, – промычала миссис Феррарс, даже не взглянув на них, – очень мило.
Фанни, должно быть, решила, что ее мать допустила слишком уж большую бестактность, поэтому слегка покраснела и поспешила сказать:
– Да, действительно, они очень милы. – Затем она, по всей вероятности, испугалась, что позволила себе слишком многое и ее любезность можно посчитать одобрением, поэтому тут же добавила: – Не кажется ли вам, что они напоминают стиль мисс Мортон? Вот уж кто действительно мастерски владеет кистью. Ее последний пейзаж неподражаем!
– Да, он бесподобен. Впрочем, ей во всем нет равных.
Этого Марианна уже не смогла вынести. Ей с первого взгляда не понравилась миссис Феррарс, а когда та начала расточать неуместные хвалы другой художнице в ущерб Элинор, она, хотя и не подозревала, что кроется за ее словами на самом деле, возмутилась до глубины души.
– Почему вы поете дифирамбы какой-то мисс Мортон? Кто она такая? Кому она интересна? Мы ведь сейчас говорим о работах Элинор! – Она взяла картины из рук Фанни и начала ими восхищаться, впрочем, они были этого достойны.
Миссис Феррарс выглядела донельзя разгневанной. Она еще более выпрямилась, хотя чего было выпрямлять и без того абсолютно прямую спину, и с благоговением произнесла:
– Мисс Мортон – дочь лорда Мортона.
Фанни тоже явно рассердилась, а ее муж страшно перепугался из-за непозволительной дерзости сестры. Элинор значительно больнее ранила вспышка Марианны, чем вызвавшая ее причина.
Глаза полковника Брэндона, обращенные к Марианне, лучше всяких слов говорили о том, что он видит лишь ее любящее сердце, которое не снесло обиды, нанесенной сестре, пусть даже по столь ничтожному поводу.
Марианна отнюдь не успокоилась. Холодное высокомерие в обращении миссис Феррарс к ее сестре, по ее мнению, должно было принести Элинор боль и огорчение, перед которыми ее истерзанное сердечко испытывало непреодолимый страх. Она подошла к сестре, порывисто обняла ее и, прижавшись щекой к щеке, сказала негромким, но дрожащим от возбуждения голосом:
– Милая, милая Элинор, не обращай на них внимания. Не позволяй им сделать тебя несчастной.
Больше она не смогла вымолвить ни слова. Не справившись с собой, она спрятала лицо на плече Элинор и разрыдалась. Все сразу же обернулись к ней, кое-кто даже с искренней тревогой. Полковник Брэндон быстро встал и направился к сестрам, не слишком хорошо сознавая, с какой целью. Миссис Дженнингс с многозначительным видом воскликнула: «Ах, бедная девочка!» – и протянула свой флакончик с нюхательной солью. А сэр Джон воспылал таким негодованием против виновника, спровоцировавшего нервный припадок, что почувствовал непреодолимую потребность выговориться, подсел к Люси и возмущенным шепотом вкратце поведал ей шокирующую историю.
Через несколько минут Марианне удалось взять себя в руки. Она снова заняла свое место, но до самого конца вечера оставалась печальной и подавленной.
– Бедная Марианна, – сказал Джон Дэшвуд полковнику Брэндону, как только ему удалось завладеть его вниманием. – Она слабее здоровьем, чем ее сестра. Она очень нервная девушка и не обладает конституцией Элинор. Впрочем, к ней следует подойти со всей возможной снисходительностью: юной девушке нелегко смириться с потерей былой красоты. Всего несколько месяцев назад Марианна была удивительной красавицей, такой же привлекательной, как Элинор. И вот что с ней стало!
Глава 35
Любопытство Элинор было вполне удовлетворено. Наконец она увидела миссис Феррарс, причем нашла в ней все, что могло сделать связи между семьями нежелательными. Она получила достаточно доказательств заносчивости этой женщины, глупой мелочности и стойкого предубеждения против нее самой. Теперь она вполне могла представить, сколько препятствий возникло бы на пути ее помолвки и заставило бы ее и Эдварда раз за разом откладывать свадьбу, будь он свободен. Она даже почувствовала благодарность судьбе за то, что та воздвигла на ее пути одно непреодолимое препятствие, которое навсегда избавило ее от необходимости терпеть грубость миссис Феррарс, зависеть от ее капризов и стараться заслужить доброе мнение. Хотя, конечно, ее не радовало, что Эдвард связан словом с Люси. Ее постоянно преследовала мысль, что, будь Люси более привлекательной, ей и вправду следовало бы радоваться.
Она не понимала, как может Люси столь радоваться снисходительной любезности миссис Феррарс. Очевидно, она настолько ослеплена корыстью и тщеславием, что приняла за искреннее расположение те знаки внимания, которые ей оказывались лишь потому, что она не Элинор. Как бы там ни было, радушный прием вселил в сердце Люси немало самых радужных надежд, свидетельством чего являлись не только ее счастливые взгляды во время злополучного обеда, но и буря восторга, которую она обрушила на Элинор на следующее утро. Люси попросила леди Мидлтон отвезти ее на Беркли-стрит, где она рассчитывала застать Элинор одну и поведать ей о своем счастье.