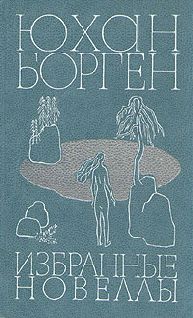Юхан Борген - Теперь ему не уйти (Трилогия о маленьком лорде - 3)
- Том, - начал Вилфред, - ты, кажется, говорил, что твоя жена с детьми уехала в город, они продают там цветы, не так ли? И что сегодня они должны вернуться. Тебе, наверно, хочется, чтобы я убрался отсюда до их приезда?
Том помог ему подняться с пола и сесть на диван.
- Ты всегда все угадывал, - ответил он. Краска то и дело заливала его детское лицо. Сейчас это была краска стыда.
- Я ненавижу тебя, - сказал он.
Да, вот так. Стоит перед ним молодой садовник, который его ненавидит. Впрочем, не такой уж молодой. Все они уже не столь молоды...
- Ладно, Том. Стоит ли волноваться из-за пустяков. Не о чем тебе больше думать, что ли...
Том снова залился краской - на этот раз от ярости.
- Пошел ты к черту! Меня теперь этакими штучками не проймешь! А я и тогда уже тебя ненавидел, и родители мои тоже, все ходили к вам, благодарили, кланялись, а сами ненавидели вас - и тебя, и мамашу твою.
Господи, еще и это. Но Вилфреду слова Тома придали силы.
- Хорошо, Том, я сейчас уйду...
- Да, уходи! Уходи!
Степенный мальчуган с мужской статью разъярился вконец. Он так ждал драматического эффекта. А Вилфред посмеялся над ним. Схватив исхудалого гостя за плечи, Том вытолкнул его из дома - в беспощадный свет дня. Вилфред изумленно огляделся кругом. Пустынное болото и зеленые холмы превратились в дачный поселок. Низенькие коттеджи с плоскими крышами стояли в ряд лицом к морю, а на некоторых участках еще только шло строительство.
- Да, мы еще перед войной разбили землю на участки. Раньше-то мы не понимали, что и здесь земля представляет ценность. Думали, ценится только земля на той стороне, где вы, господа, жили в ваших старых коробках, куда нас не пускали даже на порог!
Все былое возвратилось к Вилфреду. Конечно, не могло обойтись без перемен. Но сразу так много всего... И свет этот... Он протянул руку вперед, левую руку. Но в ту же минуту земля ушла у него из-под ног... После он миролюбиво сказал:
- Спасибо, Том, ни пуха тебе ни пера!
- И тебе тоже!
Тому пришлось наклониться к нему, потому что он упал на колени. Но он не хотел стоять на коленях. Он встал.
- А хижина фру Фрисаксен сгорела, - проговорил Том. - Там жил всякий сброд. Вот она и сгорела...
Дверь захлопнулась. Над морем кричали птицы. Вилфред был один. Черные вороны налетели с суши и вились над морем. Том сказал "всякий сброд" значит, ставил самого себя неизмеримо выше тех людей. Н-да.
Птицы теперь низко кружили над его головой и сердито кричали. Он вспомнил: нынче пора высиживания птенцов. Вот почему так злобятся птицы: всякое существо, возвышающееся над землей, мнится им смертельной угрозой. Он замахал руками, пытаясь отогнать птиц. Из дома позади него донесся смех. Птицы налетали на него со всех сторон.
Он заковылял к мысу, осаждаемый тучей белых и черных птиц. Он брел мимо участков, заваленных строительным мусором. Между рядами домов поблескивало море. И вспомнился, нет, снова ожил тот день, много-много лет назад, когда он вот так же брел по этим местам, только в зиму, в метель.
Та-та-та-там...
Наконец-то. Как и в тот раз: Симфония Судьбы... Тогда он, утопая в снегу, ходил по кругу.
Ледяные ноги фру Фрисаксен в кровати. Она была мертва. Где-то лаяла собака.
Лает собака. Кто-то заговорил с ней, успокаивая ее. Наверно, голландка - жена Тома - вернулась домой. Собака лаяла заливчато и восторженно. Вилфред побрел дальше между участков, теперь он уже не шатался на ходу. Том накормил, обогрел его - это придало ему сил. Том - добрая душа, он отблагодарил Вилфреда за то, что тот хотел его утопить.
Та-та-та-там...
Все повторялось, он думал об этом, подходя к краю мыса. Все повторялось.
А вот - новое: пепелище - почти ничего не осталось от дома фру Фрисаксен, только железная печка и еще кусок обгоревшей и свалявшейся сети, похожей на паутину... Силы снова оставили его.
Не позвали ли его с пепелища: "Входи"? Он пошарил руками в золе. Нет, кто мог бы здесь звать его...
Не выйдет ли вдруг к нему сейчас женщина, протягивая портрет фотографию юнги на улице Опорто...
Но никто не вышел к нему. И никто его не звал. Морские птицы кричали над его головой, метались над мысом. Здесь между камнями были их гнезда, он не держал на них зла за то, что они налетали на него с высоты, клевали в голову. Они так наседали на него, что он лег на землю - не от слабости, а спасаясь от них. Его рука нащупала в золе какой-то предмет. Он поднял его, чтобы рассмотреть, это было яйцо, стеклянное яйцо с белым домом внутри. Он сразу узнал его. И он подумал, всем существом своим понял: значит, вот оно где, это яйцо, ты здесь, яйцо... Он поднял его и стал разглядывать против света. Стоило повернуть его, и внутри начинал валить снег. На стекле была выцарапана буква "С".
Все вспомнилось ему. Он перестал различать тогда и теперь. Острая боль захлестнула его, но он старался не терять нить мысли. Птицы взмыли в небо и полетели над морем. Теперь, когда он лежал ничком на пепелище, он не казался им опасным. Подняв яйцо двумя руками, он смотрел, как в нем переливается свет. Это яйцо держал в руках отец, когда его нашли, - его отец, человек с сигарой.
Он снова повернул яйцо так, чтобы в нем повалил снег. Когда-то он жил в этом яйце, оно вобрало его в себя, но как же сделалось, что он вышел из него и пустился в путь, который в конечном счете снова привел его сюда?..
Со стороны садоводства к нему шагал мальчик - крепкий мальчуган с веснушчатым лицом. Вилфред привстал с пепелища - не хотел, чтобы ребенок видел его лежащим. Но мальчику было все равно, сидит он или лежит. Он протянул Вилфреду деньги - бумажкой.
- Отец сказал, чтобы ты уходил отсюда. Говорит, нечего тебе здесь ошиваться.
Мальчуган тотчас зашагал назад не оборачиваясь. Веснушчатое его лицо было жестким и замкнутым, как орех. Теперь Вилфред сидел на пепелище с деньгами и стеклянным яйцом в руках, точнее, в одной здоровой руке, соседство казалось нелепым. Здоровая рука была теперь не очень здорова, она позеленела, распухла и сильно ныла. Теперь обе его руки никуда не годятся. Но ноги еще держат его, нужно лишь терпение, они могут доставить его к пригородной станции - в сторону, противоположную морю. Интересно, следят ли за ним сейчас из окон дома? Голландка - жена Тома, у которой убили брата... может, она сейчас стоит у окна, испытывая минутное удовлетворение при виде его, подобно тому, как испытал его Том, а еще раньше - Андреас. Даже тем Андреас возвысился в собственных глазах, что женился на Эрне, которая тоже нуждалась в утешении, - в том, чтобы вырасти в собственных глазах...
Но Вилфред не мог заставить себя подняться.
Проклятые ноги, они разъезжаются в стороны всякий раз, как только он пытается встать. Если домочадцы садовника следят за ним из окон, они, наверно, подумают, что он нарочно не уходит отсюда, что он валяется здесь им назло.
Оставалось лишь набраться терпения. Была уже середина дня. Наконец ему удалось встать на ноги и, пошатываясь, сделать несколько шагов. В тот же миг чайки налетели на него. Теперь они снова видят в нем угрозу, надо уходить. И он ушел. Он шел, ища защиты у низеньких домов, слепыми окнами смотревших на него. Потом ему предстояло пересечь открытый участок - тут птицы снова его увидят. Он взглянул на свои ноги в чужих ботинках - ботинки были ему велики. Птицы галдели, верещали вокруг него, но, по мере того как он уходил от моря, их становилось все меньше и меньше. Только не оборачиваться, не размахивать руками - и так он с трудом удерживает равновесие. Он должен успеть к поезду, ему сказали, что он должен успеть к поезду. У него не было своей воли - он подчинялся приказу, не рассуждая.
Чужая воля, жившая в нем, гнала его к перешейку. Дорога вела с полуострова к летним дачам. "Старые коробки", - назвал их Том. Когда-то они были для него пределом мечтаний, сыну садовника они казались королевским дворцом, воплощением грез. Теперь же Том видел в них старые коробки. Дачи стояли на самой вершине холма. Наверно, сын Тома, тот, что лицом похож на орех, когда-нибудь купит их старую коробку в Сковлю, снесет ее и построит на ее месте новую дачу. А может, даже сам Том купит ее или Андреас! Да, Андреас купит ее и метр за метром будет пожирать пейзаж, пока не насытится им. Он скажет: вот эта старая сосна закрывает мне вид - подать сюда топор! И, чествуя самого себя - ведь он сидел в тюрьме за родину! - он скажет гостям: "Да, вот так мы валили деревья в концлагере..." И на миг он придаст своему лицу трагическое выражение, показывая, что рад бы забыть, да не может. А гости будут смотреть на него как завороженные и в душе торжественно вздымать флаг на мачту...
Ирония не помогала, никакие уловки больше не помогали. Ведь те люди правы, они всегда были правы. Все чрезвычайно просто. Шагая по перешейку, он спотыкался на гладких камнях и до боли кусал пальцы на здоровой руке, которая была отнюдь не такая уж здоровая. Все дело в этом: в сущности, все чрезвычайно просто! Все просто для того, кто сам прост душой, у кого нормальные инстинкты, вычитал он в одной из тех газет, что нашел у Роберта. Может, Роберт это и написал. А прост ли сам Роберт? И что значит это слово? Значит ли оно, что все явления - суть лишь то, что видно на поверхности, и ничего больше, вроде солнечного заката на картинах художников известного толка, тех, что пишут лодку у моста и дом на фоне леса, а сверху - небо, где положено заходить солнцу?