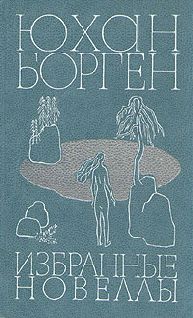Юхан Борген - Теперь ему не уйти

Обзор книги Юхан Борген - Теперь ему не уйти
Юхан Борген
Теперь ему не уйти
Часть первая.
ЭХО
1
Они выходили из хижины и, пошатываясь, брели к деревьям. Выходили по одному, нетвердой походкой, продрогшие до костей, и под сенью деревьев старались как можно дальше отойти друг от друга; ежась от холода, они тяжело ступали по рыхлому снегу. Потом смущенно оглядывались вокруг и тут, во мгле и холоде, справляли нужду. В большинстве своем старые люди, они с трудом ступали по скользкому насту, неловко — без привычки — ковыляли по лесным кочкам.
Мириам Стайн стояла на низком крыльце, которое вело в дом — род хижины для лесорубов, только не в меру большой и неудобной. Прямая, полная сил после утренней разминки, стояла она на крыльце, глубоко вдыхая воздух, и с каждым выдохом от ее сочных губ веером разлетался пар. В спортивной куртке, в брюках, она единственная из всех женщин вписывалась в пейзаж. Закурив сигарету, она приветливо кивала всем, кто, пошатываясь и спотыкаясь, возвращался назад, в хижину, где как-никак было тепло вблизи раскаленной докрасна печурки, слишком маленькой для просторной пустой комнаты с темными стенами, обычно служившей приютом парням в грубых сапогах, с топором и котомкой за плечами. Она кивала каждому, кто взбирался на крыльцо, сопровождая кивок легкой улыбкой. Ее душу переполняло сострадание, да, именно сострадание к соплеменникам — беженцам, наскоро собравшимся в путь. Она испытывала к ним сострадание с примесью досады от того, что эти люди не могли, а может, — кто знает? — и не хотели представить себе иную обстановку, чем та, к которой привыкли: улица, лавчонка, город, где они провели свою жизнь, защищенные домом, защищенные, как они воображали, всем, что их окружало. За долгие годы они утратили страх перед преследованием. И когда преследования начались, перекинувшись и в здешние глухие места, когда и здесь началась охота на людей и всё, о чем раньше только читали в газетах, они никак не могли в это поверить. Они ходили друг к другу в гости, ошарашенные, неверящие, собирались кто в задних комнатах при лавчонках, кто — в ослепительных гостиных состоятельных семейств, там, где, пожалуй, лишь семисвечник на столе перед зеркалом напоминал хозяевам об их происхождении, общности с другими, подобными им людьми, о былых гонениях. Да и не забыли ли они вообще, что они евреи?
Она не забыла. Она, в детстве никогда не знавшая притеснений, а после на крыльях хвалы летавшая от концерта к концерту, из города в город по всей Скандинавии, она, вкусившая сладость успеха в Англии и в Голландии, да и в самой Германии до того, как там начались преследования... вот только не во Франции... Она стояла, улыбаясь воспоминаниям, рассеянно кивая людям, возвращающимся в дом. Честолюбие ее жаждало покорить Париж, но там ей не повезло...
Нет, она не забыла, что она еврейка. Впрочем, думала ли она об этом в детстве, и после — в консерватории? Никогда. Наверно, и она тоже нипочем не вспомнила бы об этом, не случись то небольшое происшествие...
Правда, теперь и это воспоминание вызвало у нее улыбку, потому что случилось то происшествие в дни ее счастья... Как давно все это было...
Не случись оно, может, мысль, что она еврейка, огорошила бы ее столь же внезапно, как и всех прочих, кого она сейчас в душе корила за это!..
Она стояла, улыбаясь своим мыслям. Из леса вышла старая фру Ф. — худая, в тяжелой, неудобной одежде; решив, что улыбка предназначается ей, она торопливо улыбнулась в ответ, как улыбаются люди, скованные страхом. Весь вчерашний день напролет старая женщина упрямо несла сама свой старомодный рюкзак, когда вереница людей медленно пробиралась сквозь частокол одинаковых стволов, выстроившихся ровными рядами, будто намеренно преграждая путь к земле обетованной, к стране, ставшей теперь для них землей обетованной, — к стране вон за тем лесом...
Из дома донеслась команда, отданная рокочущим басом и тут же повторенная пронзительным тенорком. Пронзительный тенорок принадлежал Харалдсену — сморщенному, будто высушенному на ветру, суетливому, настырному человечку. Харалдсен, судя по всему, был помощником Лося.
Вообще-то говоря, беженцам не полагалось знать ни имен, ни прозвищ своих провожатых, как, впрочем, и тех, у кого они находили приют в разных местах на окраине города. Они впервые встретились — молчаливая горстка перепуганных людей, — когда их собрали всех вместе на маленькой железнодорожной станции с красным зданием вокзала у двух пересекающихся путей. Им вообще не полагалось ничего знать. Но они как-то уловили это имя: Харалдсен. Так звали морщинистого, будто высушенного на ветру человечка, который вечно повторял все, что ни пророкочет своим звучным органным басом тот, другой — высокий, невозмутимый. Этот маленький человечек беспрерывно подгонял беженцев, донимал их резкими, сердитыми приказаниями. Мириам стояла у дома, уложив рюкзак, готовая идти дальше, и думала, что, наверно, возненавидела бы и этот голос, и, возможно, его обладателя, не будь он, как и тот, высокий, по прозвищу Лось, их спасителем — доверенным лицом Сопротивления, человеком, знающим каждую былинку, каждую кочку вдоль дороги между рекой и границей.
Скорей — в страну обетованную! Губы Мириам вновь сложились в горькую улыбку. Она знала, что все это случится. Но тоже никуда не уехала. Зная, чего следует ждать, она в душе не верила в это: не было у нее той убежденности, которая побуждает к действию. Она вообще считала, что всякое предвидение зиждется на шаткой основе: то-то и то-то случилось там-то и там-то — значит, то же самое должно теперь непременно случиться здесь. В душе жила смутная надежда: может, именно потому, что все случилось там-то и там-то, может, именно потому уже не случится здесь...
Но это случилось. Случилось одиннадцать дней назад. И все, или почти все, сразу узнали об этом. Весть переползала из дома в дом, приходили усталые, измученные бессонницей люди с оловянным взглядом, приходили в чужие дома и наставляли хозяев; их глухие голоса и мрачные взгляды подтверждали: началось. Началось и здесь тоже. Преследования евреев в Норвегии стали фактом, в Норвегии, маленькой разоренной стране, не желавшей верить, что одно неизбежно влечет за собой другое, что логика беспощадна, как математический ряд. Измученные бессонницей люди рассказывали: удалось вывезти еврейский детский дом — отважная женщина-врач приехала за детьми на автомобиле и постепенно перевезла всех. Рассказывали, что уже начались погромы и грабежи; в квартирах верующих евреев погромщики ломали утварь, уничтожали предметы ритуала, ненавистные и недоступные пониманию невежественных верзил в мундирах; рассказывали про супругов, разлученных и порознь отправленных...
Мириам поежилась на утреннем холоде. Слово это... Оно вобрало в себя все — все, что знаешь, но чему отказываешься верить, о чем догадываешься и рисуешь себе в мыслях, но страшишься признать. Безжалостные географические названия будто вмерзли в мозг: злобное смертоносное Берген-Бельзен, Освенцим с его дьявольским присвистом и ватное Маутхаузен, от слов этих пересыхает горло, и в нем першит от страха. И это глумливое слово: «отправили». Отправили, будто сверток, будто хлам, утративший всякую ценность в этом мире несчетных могил. Она, Мириам Стайн, скрипачка с европейским именем, сейчас втайне дрожала от стыда: ведь она не хотела верить тому, что хорошо знала. И еще она стыдилась мысли, что она сама и, может, трое-четверо других беженцев уже давно достигли бы желанной границы, без ночевки в обледеневшей хижине, не доведись им волочить за собой всех этих стариков и калек — людей, сгубивших свое здоровье тем, что вечно цеплялись за насиженные места, за жалкий свой скарб.
Неужто страх за собственную жизнь должен непременно ущемлять естественную человечность, подавлять чувство общности и сострадания?..
Все собрались теперь на площадке перед хижиной.
Было еще темно, но с востока, куда они держали путь, между стволами пробивался робкий свет. Символический свет... Ни разу за много лет Мириам не думала о том, что она еврейка, ни разу с тех пор, как не стало ее родного дома со всем его ритуалом, который соблюдали ее отец и братья... Но насколько искренней и глубокой была их вера? Этого она никогда не узнает. Все они уже умерли. Ее брат, живший в Париже. И прелестный Жак, сынишка его... Она теперь одна на всем белом свете. Когда-то она любила, но это давно прошло. Она выжгла в себе все, что не вело от одной сцены к другой, от одного концертного зала к другому, ко всем этим залам, где гасили свет, где сидели люди, над которыми она властвовала с помощью смычка — волшебного продолжения ее правой руки, тогда как левая рука легко и крепко держала скрипку, ставшую истинным продолжением ее души в мире, лишенном каких бы то ни было прочных ценностей, кроме музыки.