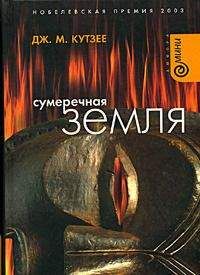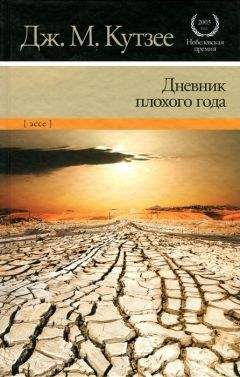Дж Кутзее - Осень в Петербурге
Есть чемодан. Есть белая пара. Где-то она еще существует. Но существует ли способ, позволяющий воссоздать, начав со ступней, тело, облаченное в белую пару, - воссоздавать его, пока не откроется наконец лицо - пусть даже лицом этим будет воловье рыло Ваала?
Голова у фигуры, сидящей напротив, великовата, она крупнее, чем следует быть голове человека. Собственно, во всех пропорциях ее присутствует что-то отчасти неправильное, некоторая чрезмерность.
Не подцепил ли и он лихорадку? Жаль, нельзя позвать из другой комнаты Матрену, чтобы она потрогала его лоб.
Фигура напротив не вызывает в нем никаких ощущений, никаких решительно. Или правильнее: он чувствует окружающее ее облако равнодушия, как бы мантию мрака. Оттого ему и не удается подыскать для нее имя - не потому, что имя от него скрыто, но потому, что существо это безразлично к любым именам, ко всякому слову, ко всему, что он может о нем сказать?
Сила, исходящая от пришлеца, настолько велика, что он чувствует, как сила эта давит его, накатывая безмолвными волнами.
Третье искушение. То, о чем он говорил Анне Сергеевне: я послан сюда, чтобы жить жизнью России. Стало быть, так Россия и проявляет себя - этой силой, этой тьмой, этим безразличием к именам.
Или же имя, ему недоступное, есть имя того, другого юноши, принять которое он не может: Нечаев? И урок, данный ему, в том-то состоит: в глазах Божиих нет различия между ними двумя, Павлом Исаевым и Сергеем Нечаевым, равновеликими воробьями? Должен ли он отказаться от последней своей веры в неповинность Павла и признать его истинным товарищем и клевретом Нечаева, неуемным юнцом, безоговорочно принимающим все, что предлагает Нечаев, - не только увлекающий воображение заговор, но и взвинчивающий душу восторг игры со смертью? И если Нечаев ненавидит отцов и ведет с ними непримиримую войну, то не должно ли допустить, что и Павел пошел по его стопам?
Задав себе этот вопрос, допустив, что Павел успел вкусить от начатков ненависти и жажды крови, он ощущает, как и в нем поднимается некая волна ростки гнева, который содержит в себе ответ Павлу, ответ Нечаеву, ответы им всем. Отцы и дети - враги, враги до смертного часа.
Так он и сидит, оцепенелый. Либо Павел останется в нем ребенком, замурованным в склепе его горя, либо он выпустит Павла на волю со всей его яростью против власти отцов. Дав волю и собственной ярости против неверия и неблагодарности сыновей, выпустив ее, будто джина из бутылки.
Это все, что ему удается увидеть, - выбор, лишенный выбора. Он не способен думать, не способен писать, не способен оплакивать никого, кроме себя. Покамест Павел, подлинный Павел не придет к нему незваным, по собственной воле, он так и останется заключенным в узилище своего тела. И никакой уверенности в том, что Павел не приходил уже ночью и не говорил с ним, он не питает.
Павлу дозволено поговорить с ним только единожды. И все же он не хочет смириться с тем, что не будет прощен за свою глухоту, слепоту или тупость, не позволившую ему услышать произнесенное Павлом слово. И потому он вслушивается, ожидая, что Павел заговорит с ним опять. Он верит всею душой, что второго слова не заслужил, что не будет ему второго слова. Но так же, всею душой, он верит, что второе слово придет.
Он знает и то, чем чревата для него вторая ставка на удачу. Проигрышем. Он обязан сделать то, чего сделать не может, - подчиниться всему, что его ожидает, слову ли или молчанию.
Он боится, что Павел заговорит. Он верит, что Павел заговорит. Все сразу. Лес и бес.
В подобном состоянии духа он сидит за столом Павла, не отрывая взгляда от призрака, чья пристальность столь же нещадна, сколь и его - призрака, которого ему дано было вызвать к жизни.
Не Нечаев - это он уже понял. Кто-то покрупнее Нечаева. И не Павел. Быть может, Павел, каким он мог бы стать, окончательно распростившись с отрочеством и обратясь в мужчину, красивого, с холодным лицом, мужчину, которого не способна тронуть никакая любовь, ни даже преклонение девочки, "на все для него готовой".
Такая возможность угнетает его. Это не правда или покамест еще не правда. Но от образа Павла, переросшего отрочество, переросшего любовь - переросшего не как человек, а как насекомое, которое целиком меняет свой облик на каждой ступени развития, - по спине бежит холодок. Вглядываться в него - это то же, что опуститься в воды Нила и лицом к лицу встретиться с чем-то огромным, холодным и серым, что могло быть рождено некогда женщиной, но в ходе столетий укрылось в камне и уже не принадлежит к этому миру, отвергая и сокрушая все его представления.
Христос на Голгофе также его сокрушил, но существо, сидящее перед ним, не Христос. Любви он в нем не примечает, только холод и давящее безразличие камня.
Существо это, столь серое, лишенное черт, - его ли обязан он усыновить, наполнить кровью, плотью, жизнью? Или он ошибается, и ошибается изначально? Быть может, это от него ожидают, что он отринет все, из чего состоит, все, чем он стал, вплоть до внешнего облика своего, и вновь обратится в младенца? И тот, кто сидит перед ним, станет отцом его, а ему надлежит отдаться отцовскому попечению этой твари?
Если так суждено, если в этом истина и путь к воскрешению, он готов это сделать. Он откажется от всего и, следуя за тенью, войдет, нагой, как младенец, в самые врата ада.
Вновь возвращается видение, от которого он отшатывался весь этот месяц: Павел в морге, голый, изломанный, окровавленный; и семя в теле его также мертво или уже умирает.
Ничего сокровенного не осталось. Стараясь не мигать, он смотрит на Павла, на те части тела его, без которых невозможно никакое отцовство. И в памяти снова всплывает берлинский музей и демоница-богиня, вытягивающая из трупа семя, чтобы его сохранить.
Тут и настает наконец миг, когда рука с пером приходит в движение. Но слова, выводимые ею, - не слова спасения. Они повествуют о мухах, верней об одной черной мухе, жужжащей на оконном стекле. Петербург, разгар лета, жаркого, липкого; внизу на улице шум, играет музыка. В комнате лежит рядом с мужчиной нагая девочка с карими глазами и прямыми светлыми волосами, тонкие ноги ее едва достигают лодыжек мужчины, лицо скрыто в изгибе его плеча, девочка зарылась в него, как ребенок.
А кто же мужчина? Прекрасное, как у бога, сложение. Но такая мраморная стужа исходит от него, что обнимаемая им девочка наверняка продрогла до костей. Что до лица его - лица не разглядеть.
Он сидит с пером в руке, удерживая себя от погружения в картины, которым нет места в этом мире, удерживаясь на самом краю падения, сидит, охваченный ощущением мига, в который все творение ложится, открытое, у его ног, последнего мига перед тем, как хватка его ослабеет и он начнет падать.
Это мгновение из тех, в которые он обращается в тонкого ценителя подобных картин, в сластолюбца. Из тех, за которые он будет проклят.
Он вскакивает, охваченный нетерпением, вынимает из чемодана дневник Павла, находит первую пустую страницу, неисписанную, потому что сын уже мертв. На ней он и начинает писать, начинает заново.
Он пишет о себе, сидящем в той же комнате, в которой сидит сейчас. Только комната эта принадлежит теперь Павлу и никому больше. И он уже не он, не мужчина на сорок девятом году жизни. Он снова молод, полон заносчивой юной силы. На нем отлично сшитая белая пара. В какой-то мере он - Павел Исаев, хотя и называет себя другим именем.
Ощущение торжества бродит в крови этого юноши, этого подобия Павла. Он прошел чрез врата смерти и возвратился; теперь он решительно неуязвим. Он не бог, но уже и не вполне человек. В определенном смысле он выше всего человеческого, выше человека.
И через этого юношу начинает писать себя дом с его затхлыми коридорами и глухими углами, вот этот дом в Петербурге, в России.
Аккуратными прописными буквами он выводит вверху страницы "КВАРТИРА" и далее пишет:
Он спит допоздна, поднимаясь обычно после полудня, когда в квартире становится жарко до того, что простыни намокают от пота. Выбравшись из постели, он плетется в умывальню на лестнице, ополаскивает водою лицо, чистит пальцем зубы и возвращается назад. Небритый, всклокоченный, он поедает завтрак, оставленный для него квартирной хозяйкой (масло уже растаяло, в молоке плавают мошки); следом бреется, надевает вчерашнее белье, вчерашнюю рубашку и белую пару (стрелка на панталонах, пролежавших всю ночь под матрасом, остра, точно нож), увлажняет и приглаживает волосы; и наконец, приуготовив себя к новому дню, лишается всякого интереса к нему, всякого побуждения идти куда-то, и снова садится за стол с остатками завтрака, и впадает в тупое оцепенение или, вяло развалясь, чистит ножом ногти и ждет, когда хоть что-нибудь произойдет, когда вернется из школы девочка.
А то еще бродит по квартире, открывая комоды, роясь в вещах.
Под руку ему подворачивается медальон с портретами хозяйки и ее покойного мужа. Он плюет на стекло и протирает его носовым платком. Посветлевшие супруги обмениваются взглядами через пространство их крохотной тюрьмы.