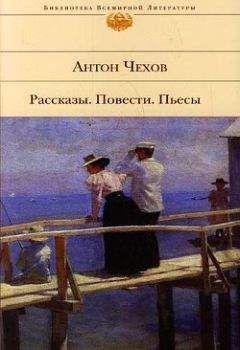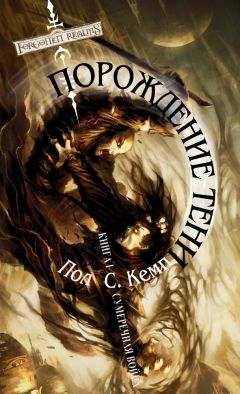Камил Петреску - Последняя ночь любви. Первая ночь войны
И теперь эти люди в военной форме — единственные, кто по-настоящему близок мне, ближе, чем мать и сестры.
Кроме того, гордость ставит передо мною и другую проблему. Я не могу дезертировать прежде всего потому, что не хочу пропустить участия в предстоящем решающем испытании, точнее, — хочу, чтобы оно стало частью моего духовного существа. В противном случае те, кто пройдет это испытание, будут обладать превосходством передо мною, а этого я допустить не могу. Это будет для меня своего рода ущербностью. До сих пор я мог позволять себе определенные поступки, потому что у меня были на это и повод и оправдание: я стремился проверить и утвердить собственное «я». А при ущербном «я» нельзя иметь ни своей точки зрения, ни установить отношения с безграничным окружающим миром, а следовательно — и нет возможности духовно реализовать себя. Подобная ущербность неотвратимо повлекла бы за собой упадничество. Еще вчера моя совесть позволяла мне убить, считать себя выше законов, потому что мне не в чем было упрекнуть мой духовный мир, но именно поэтому я не позволяю себе трусливо уклониться от опасности, которой не могут избежать все эти солдаты. Не обладая никаким особым талантом, не веря в бога в этом смертном мире, я могу реализовать себя, как я уже пытался это сделать, только в абсолютной любви. Пусть я однажды был обманут, но я мог бы снова сделать попытку, а потому не хочу с самого начала чувствовать себя ущемленным перед лицом женщины из-за такого духовного изъяна.
Я поспешил к складу боеприпасов, считать патроны. Но это было излишним, ибо здесь царил невообразимый беспорядок. Это впечатление хаоса вселило в меня паническую тревогу. Я бестолково метался туда и сюда в этой сутолоке, среди людей, которым сегодня вечером предстояло сыграть роль в трагедии, едва не разыгранной мною вчера.
Два солдата из интендантства ходят взад и вперед по тропинке, взвалив на плечи четверть бычьей туши.
— Господин младший лейтенант, что же нам с этим мясом делать?
... Да кто захочет есть? Кому завтра придет охота есть даже среди тех, кто останется в живых?
— Господин младший лейтенант, что же нам с ним делать?
— Бросьте его.
Темнеет; время бежит быстро, и ничто его остановить не может. У меня пересохло во рту.
В столовой командир роты и еще два офицера закусывают битками в сухарях (те, кто рубил мясо час назад, приготовляли его для других людей, для иного вечера).
— Перекусите и вы ... Надо немного подкрепиться... Да ... Кто знает, что случится сегодня вечером.
У меня нет ни нужды, ни охоты есть.
— Который час?
Этот назойливый, как галлюцинация, вопрос словно уколол, меня в сердце.
— Без пяти минут пять. Остается еще пять минут.
— В роту!
Раздаются свистки: люди выстаиваются в колонну, гремя флягами и лопатами, бряцая оружием. Время от времени раздаются крики: «Никулае Фира ... Никулае Фира ... пойди возьми шинель господина унтер-офицера ...» Сумерки действуют и на тех, кто до сих пор еще отпускал шуточки. Спускаемся, спотыкаясь на камнях, по булыжной дороге — не той, по которой я бежал вчера ночью. Никто уже не произносит ни слова.
Внизу нас ждет другой батальон, уже построенный. По всей долине в сумеречном свете видны только немые силуэты солдат, словно большая пепельно-серая стая.
Меня подзывает полковник, теперь занявший пост командира полка. Он пытается ликвидировать беспорядок строгим соблюдением уставных форм. Около него собралось большинство офицеров.
— Значит, вы в головном взводе авангарда? Я слышал, что вы знакомы с командиром роты при таможне? Слушайте, что вам надлежит делать.
Мне как-то не верится, что он обращается именно ко мне.
— Пошлите двух солдат к шлагбауму ... наш пограничник попросит прикурить у их таможенника. В этот момент те двое хватают его и приставляют штык к горлу, приказывая молчать. Если пикнет — заколоть.
— Но если...
— Молчать ... Младший лейтенант-венгр живет при таможне, не правда ли? Ворвитесь к нему с четырьмя солдатами с оружием наготове и объясните, что он останется цел, если сдастся в плен. Остальные солдаты нападают на казарму. — И, обращаясь к капитану Флорою: — Вы, разумеется, немедленно следуете за ним и окружаете казарму.
Мы отправляемся в путь. Здесь среди гор совсем стемнело. Мы выходим на шоссе и останавливаемся; сзади меня — весь полк.
Офицер связи сообщает мне, что приказ отменяется: впереди пойдет полк десять — Р из нашей же бригады.
Я пытаюсь навести порядок: солдаты сбили строй, перемешались.
— Тебя как зовут, парень?
Бормочет что-то непонятное дрожащими губами.
— Да откуда ты? Из какого отделения?
— Нет ... нет ... я ... да ...
Они стоят понурым стадом. Я переставляю их с места на место, и они остаются там, где я их поставил, вялые, безвольные. Впрочем, голоса офицеров тоже срываются. За пять шагов от нас уже ничего не видно; кто знает, сколько смертельных опасностей, сколько жестоких сцен таит эта ночь вокруг нас, такая черная, что не различишь и силуэта. Может быть, те, другие, уже начали бой? Вдруг они выступили одновременно с нами?
Счастливый, что не мы атакуем первыми, я сажусь на траву, еще теплую от солнца.
Я думаю о кровопролитии, которое начнется через тридцать-сорок минут. Черепа, размозженные прикладами, пронзенные тела, затоптанные идущими вслед солдатами. Пожары, вопли. Разрывы снарядов, сметающие целые шеренги. Я знаю, что умру, но хотелось бы знать, смогу ли я физически выдержать ранение, которое раздробит мне тело. И одна неотвязная мысль, оттесняющая все другие: что именно мне суждено — пуля? Штык? Или снаряд?
«20-й, вперед!» Приказ передается по цепочке. Я поднимаю солдат, словно больных, и мы снова идем по шоссе, белизна которого сейчас невидима. Моя единственная защита в ночи — мои товарищи; мы словно путники, преследуемые волками, и нужно обороняться спиной к спине, ибо отовсюду, со всех сторон, в любой момент нас может настигнуть смерть от пули и железа.
По уставу полагается высылать дозорных на сто метров вправо и влево от дороги. Я назначаю людей, но никто не отделяется от колонны. Я трясу их, толкаю во тьму, но они, инертные, обмякшие, отходят всего на три шага и потом продолжают тащиться рядом с нами. Я отказываюсь от попыток ... Будь что будет.
На какое-то мгновение я ясно вижу здесь, в сердце гор, где-то вдали от меня, словно на картине, мою жену и ее любовника; но у меня нет времени разглядывать их. Их счастье, их ложь — детские игрушки по сравнению с людьми рядом, из которых один умрет через десять-пятнадцать минут, другие — завтра, послезавтра, на будущей неделе.
Внезапно из тьмы впереди, где нам слышится живое движение людей, из неведомой и незнаемой ночи, как из бездны, доносится треск ружейной пальбы. Этот звук единствен во всем мировом пространстве. Он первороден, как первый человек на земле, и я не забуду его никогда, до скончания жизни. Как будто быстро протарахтела большая кофейная мельница. Но что означает этот залп в ночи, думаю я, кто стрелял? кто пал?
Жребий брошен.
Рота и, как я подозреваю, весь полк внезапно поворачиваются назад, и люди уже готовы бежать. Я кричу, потрясенный мыслью об этом безумном бегстве, которое было бы хуже смерти: «На месте, стоять на месте!»
Все в изнеможении останавливаются, так как ни у кого нет желания бежать; через несколько мгновений мы продолжаем свой марш, волоча ноги, как на похоронах.
За холмом, на повороте шоссе, я соображаю, где мы находимся. Прикидываю расстояние и понимаю, что авангард уже безусловно миновал таможню. Значит, свершилось. То, о чем говорилось и писалось, стало материей, камне.м, оружием, самой этой ночью. Мы перешли на ту сторону, перешагнули пунктирную линию, которую я столько лет рисовал в школе.
— Смотрите ... смотрите...
Навстречу под охраной двух солдат с винтовками наперевес идет пленный — сомневаться не приходится. Это старшина Бела Киш, я узнаю его по брюкам из белого тика.
Итак, первый пленный в этой войне, в которой я участвую.
Люди немного пришли в себя; непроглядный мрак сменился прозрачной тьмою.
Теперь и мы проходим мимо таможни. Шлагбаум сломан, подле него лежит убитый. Какой-то солдат поддерживает на своих коленях раненого.
— Что тут было, братец? — спрашиваю я его на ходу.
— Короткая схватка ... Смертельно ранен господин полковник П. Б... . Видите...
Немного спустя я узнал, что венгерский часовой успел крикнуть. Лейтенант Сигизмунд Лайош выскочил на улицу и выстрелил из револьвера в вооруженную группу, и пуля его во тьме попала в голову полковника, который шел во главе авангарда. Потом, после перестрелки, все венгры бежали. Это произошло только что, в черной тьме, а мы ничего не видели, словно ничего и не было. Потом мне сказали, что полк десять — Р двинулся направо, и впереди меня снова никого нет (словно завесу отдернули), и я должен развернуть авангард как полагается. Но это невозможно. Мой взвод идет впереди роты в ста-двухстах метрах, но дозорные по-прежнему отдаляются от меня не более чем на десять метров.