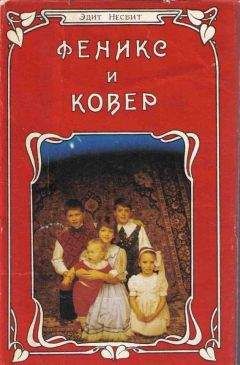Владимир Набоков - Под знаком незаконнорожденных
– Да? – сказал бледнолицый мужчина, продолжая смотреть на промокатель-качалку, которым он пристукивал что-то, сию минуту написанное.
– Я требую незамедлительных действий, – сказал Круг.
Служащий посмотрел на него усталыми, водянистыми глазами.
– Мое имя – Конкордий Филадельфович Колокололитейщиков, – сообщил он, – но все зовут меня Кол. Присядьте.
– Я… – заново начал Круг.
Кол, покачивая головой, торопливо отбирал необходимые формуляры:
– Минуточку. Первым делом нам надлежит получить от вас все ответы. Величать вас…?
– Адам Круг. Будьте добры немедленно привезти сюда моего ребенка…
– Немного терпения, – сказал Кол, обмакивая перо. – Процедура, не спорю, утомительная, но чем скорее мы с ней покончим, тем лучше. Значит, К, р, у, г. Возраст?
– Будет ли необходима вся эта чушь, если я сразу скажу вам, что передумал?
– Необходима при любых обстоятельствах. Пол – мужской. Брови густые. Имя родителя вашего…
– Такое же, как у меня, будьте вы прокляты.
– Ну-ну, не надо меня проклинать. Я устал не меньше вашего. Вероисповедание?
– Никакого.
– Это не ответ – «никакого». Закон требует, чтобы каждое лицо мужеска пола объявило свою религиозную принадлежность. Католик? Виталист? Протестант?
– Мне нечего ответить.
– Любезный вы мой, вас хотя бы крестили?
– Я не понимаю, о чем вы говорите.
– Ну, это уж совершенно… Помилуйте, должен же я хоть что-нибудь записать?
– Сколько еще там вопросов? Вы что, собираетесь заполнить все это? – указывая на страницу безумно дрожащим пальцем.
– Боюсь, что так.
– В таком случае я отказываюсь продолжать. Я здесь для того, чтобы сделать заявление чрезвычайной важности, а вы тратите время на ерунду.
– Ерунда – слишком резкое слово.
– Слушайте, я подпишу все, что хотите, если моего сына…
– Ребенок один?
– Один. Мальчик восьми лет.
– Нежный возраст. Вам тяжело, сударь, не спорю. Я что хочу сказать, – я сам отец, и все такое. Однако могу вас уверить, что мальчик ваш в совершеннейшей безопасности.
– Нет! – крикнул Круг. – Вы прислали пару бандитов…
– Я никого не присылал. Перед вами chinovnik на мизерном жалованье. Я, если угодно, скорблю обо всем, что случилось в русской литературе.
– Так или иначе, но, кто бы тут ни командовал, он должен выбирать: либо я остаюсь немым навсегда, либо же говорю, подписываю, присягаю – все, что угодно правительству. Однако я сделаю это все, и даже больше, только если сюда, вот в эту комнату, доставят мое дитя, незамедлительно.
Кол колебался. Все это весьма уклонялось от правил.
– Все это весьма уклоняется от правил, – сказал наконец он, – однако мне представляется, что вы правы. Видите ли, общепринятая процедура примерно такова: первым делом надлежит заполнить анкету, потом вы отправляетесь восвояси, в камеру. Там вы изливаете душу такому же, как вы, заключенному – это, понятное дело, наш человек. Затем утречком, часиков этак около двух, вас пробуждают от тревожного сна, и я начинаю допрос заново. Сведущие люди считают, что вы должны будете расколоться так где-то от шести сорока до семи пятнадцати. Наш метеоролог предрек особо безрадостный рассвет. Д-р Александер, коллега ваш, согласился переводить на обыденный язык ваши загадочные высказывания, потому что никто же не мог предвидеть такой прямоты, такой… я полагаю, нелишне добавить, что вам пришлось бы еще выслушивать детский голосок, испускающий стоны притворной боли. Я сам их отрепетировал со своими детишками, они будут страшно разочарованы. Вы действительно хотите сказать, что готовы присягнуть в верности Государству, и все такое, если…
– Лучше поторопитесь. Кошмар может стать неуправляемым.
– Ну как же, конечно, сию минуту я все устрою. Ваше расположение весьма удовлетворительно, весьма. Наша замечательная тюрьма сделала из вас человека. Вот истинная радость. Уж непременно станут меня поздравлять с тем, как быстро я вас расколол. Прошу простить.
Он встал (мелкий, щуплый слуга Государства с большой бледной башкой и черной зубастой пастью), отдернул складки бархатной portiere, и узник остался наедине со своим тупым «один-один-один». Вход, которым Круг воспользовался несколько минут назад, был скрыт картотечным шкапом. То, что выглядело зашторенным окном, оказалось зашторенным зеркалом. Он поправил ворот халата.
Прошло четыре года. Потом разрозненные части столетия. Ошметки драного времени. Скажем, всего двадцать два года. Дуб перед старой церквушкой утратил всех своих птичек; один кряжистый Круг не переменился.
Предваряемый легкой вспучкой, или трясучкой, или и тем и другим занавеса, а после и собственной его зримой рукой, Конкордий Филадельфович воротился. Вид у него был довольный.
– С минуты на минуту ваш мальчуган будет здесь, – бодро сказал он. – Все в большом облегчении. За ним ходит ученая няня. Говорит, мальчик вел себя очень плохо. Верно, сложный ребенок? Кстати, меня просили у вас понаведаться: желаете ли вы сами написать свою речь – и заблаговременно представить – или воспользуетесь готовым материалом?
– Материалом. Я страшно хочу пить.
– Нам сейчас подадут закуски. Теперь другой вопрос. Тут надо бы подписать кой-какие бумаги. Можно прямо сейчас и начать.
– Не прежде, чем я увижу ребенка.
– Вы будете очень заняты, sudar’ [сэр], предупреждаю вас. Наверняка уже журналисты отираются поблизости. Ах, сколько мы претерпели волнений! Мы уж думали, Университет никогда не откроется. Завтра, смею верить, начнутся студенческие демонстрации, шествия, публичные благодарения. Вы д’Абрикосова знаете, фильмового режиссера? Так вот, он, говорит, всегда чувствовал, что вы вдруг осознаете величие Государства, и все такое. Говорит, это вроде la grâce в религии. Откровение. Очень, говорит, трудно объяснять эти вещи людям, не испытавшим этого внезапного ослепляющего удара истины. Я со своей стороны безмерно рад привилегии засвидетельствовать ваше прекрасное обращение. По-прежнему дуетесь? Ну-ка, давайте-ка мы разгладим эти морщинки. Внимание! Музыка!
Он, видимо, кнопку нажал или повернул рычажок, потому что вдруг припустили распутные трубы, и добряк добавил уважительным шепотком:
– Музыка в вашу честь.
Однако звуки оркестра потонули в визгливом звонке телефона. Очевидно, большие новости, ибо Кол опустил трубку триумфально-напыщенным взмахом руки и указал Кругу на занавешенную дверь. После вас.
Он был человек светский; Круг таковым не был, Круг рванул вперед, как неотесанный боров.
Сцена без номера (во всяком случае, один из последних актов): просторная ожидальня в роскошной тюрьме. Изящная модель гильотины (с чопорной куклой в цилиндре – обслуга) под стеклянным колоколом на полке камина. Масляные полотна, темно трактующие разные религиозные темы. На низком столике кипа журналов («Geographical Magazine», «Столица и усадьба», «Die Woche», «Дегустатор», «L’Illustration»). Один или два книжных шкапа, книги обыкновенные («Маленькие женщины», III том «Истории Ноттингема» и прочее). Связка ключей на стуле (забытая одним из стражей). Стол с закусками: тарелка бутербродов с селедкой и ведро воды в окружении кружек, прибывших сюда с различных немецких курортов (на кружке Круга – вид Бад-Киссингена).
Дверь в глубине сцены широко растворилась, множество фотографов и репортеров образовали живую галерею, по которой двое дородных мужчин повели тоненького испуганного мальчика лет двенадцати-тринадцати. Голова его была свежеперебинтована (говорят, винить некого, он поскользнулся на полированных полах Музея Ребенка и стукнулся лбом о модель машины Стефенсона). Черная школьная форма, ремень. Локоть его взлетел, прикрывая лицо, когда один из мужчин сделал внезапный жест, желая обуздать рвение репортеров.
– Это не мой ребенок, – сказал Круг.
– Ваш папа все шутит, все шутит, – добродушно поведал ребенку Кол.
– Мне нужен мой ребенок. Это чей-то еще.
– Что такое? – резко спросил Кол. – Не ваш ребенок? Глупости, милейший. Протрите глаза.
Один из дородных мужчин (это полицейский в штатском) вытащил документ и вручил его Колу. В документе значилось ясно: Арвид Круг, сын профессора Мартина Круга, прежнего вице-президента Академии медицинских наук.
– Повязка, возможно, отчасти изменила его, – поспешно произнес Кол, и нотка отчаяния втерлась в его говорок. – И потом, конечно, мальчики так быстро растут…
Охранники вышибали у фотографов аппараты и выпихивали репортеров из комнаты. «Мальчишку держи», – сказал отвратительный голос.
Новопришедший, человек по имени Кристалсен (красное лицо, синие глаза, высокий крахмальный воротничок), бывший, как выяснилось впоследствии, Вторым секретарем Совета Старейшин, подошел к Колу вплотную и спросил у несчастного Кола, придерживая его за узел на галстуке, не полагает ли Кол, что он в некотором роде несет ответственность за это идиотское недоразумение. Кол все еще надеялся, неизвестно на что…