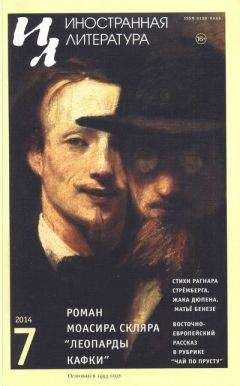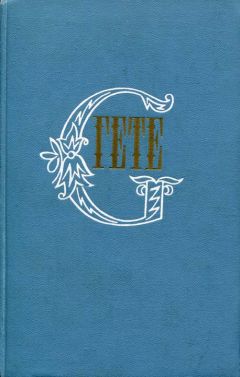Торквато Тассо - Освобожденный Иерусалим
ПЕСНЯ ТРИНАДЦАТАЯ
1Едва упала кучей пепла башня,
Что разгромить должна была Солим,
Как чародей Исмен готов пуститься
На новые уж хитрости, чтоб прочность
Валов и стен вернее обеспечить,
В латинянах отвагу обуздать
И помешать им вновь построить башню
Иль что-нибудь соорудить иное.
Недалеко от ставок христианских
Растет в ложбине старый темный лес:
Как мир, такого ж возраста деревья
Пространство наполняют мрачной тенью.
Как пламенно бы солнце ни сияло,
Там сумраки царят, как в те часы,
Когда иль ночь у дня, иль день у ночи
Оспаривают облачное небо.
Но при закате солнечном в лесу
Становится темно, как в преисподней;
Глаза не видят ничего, сердца же,
Охваченные страхом, холодеют.
Ни стадо, ни пастух, ни путник в эту
Трущобу отдохнуть не забредут:
Ее обходят издали как место,
Таящее проклятье и погибель.
И там-то, прилетев на облаках
С любовниками гнусными своими,
Справляют ведьмы пиршества ночные;
Там в образах причудливых один
Другого омерзительней, ужасней,
Держа совет лукавый, непотребством
Бесстыднейшим природу и любовь
Насилуют они и оскорбляют.
Никто из местных жителей и ветку
Сломать в лесу ужасном не дерзал;
Но для своих снарядов христиане
Бестрепетно рубили в нем деревья.
И вот Исмен во тьме безмолвной ночи
Украдкой проникает в эту чащу;
Там круг тотчас описывает он
И знаки в нем таинственные чертит.
Снимает обувь он, в круг ногу ставит
И мощные бормочет заклинанья:
К востоку и к закату по три раза
Лицо он поворачивает, машет
Три раза чудодейственным жезлом,
Ногой три раза в землю ударяет
И, наконец, ужасные слова,
Как будто сил набравшись, произносит:
«Внимайте мне, внимайте, что из света
Низвергнуты во тьму огнем небесным;
Что носитесь по воздуху и в нем
То бури порождаете, то грозы;
Вас, ада обитатели и слуги
Отчаянья и смерти, вас зову;
Равно зову тебя, кому подвластно
Тебя же пожирающее пламя.
Блюдите этот лес и все деревья,
Которые вверяю вам по счету:
Как с телом человеческим душа,
Пусть каждый с каждым деревом сольется;
И каждый в лес вступивший христианин
От каждого пусть в ужасе отпрянет».
Добавил он еще слова другие,
Но их ничей язык не повторит.
При этих заклинаньях меркнут звезды
И, облаком прикрывшись, тускнет месяц;
Но демонов не слышно и не видно.
Тогда Исмен выходит из себя
И восклицает яростно: «Мой голос
Уж не страшит вас больше, духи ада?
И заклинаний, может быть, еще
Ужаснее из уст моих вы ждете?
Искусства моего еще я самых
Могущественных тайн не позабыл
И языком, искусанным до крови,
Еще произнести сумею слово,
Которое заставит побледнеть
И, вашего владыку на престоле.
Внемлите же! Я… я…» Он продолжал бы,
Но чары между тем уж совершились.
Летят к нему толпами злые духи,
И те, что реют в воздухе, и те,
Что населяют бездны преисподней.
Трепещут все еще от повеленья
Не вмешиваться вовсе в распри смертных;
Но доступ в лес им не был воспрещен,
И здесь, не нарушая воли Неба,
Они жильем избрать деревья могут.
Исмен, гордясь успехом чародейства,
В Солим идет обратно к Аладину
И говорит: «Отныне, государь,
Ты можешь быть вполне спокоен сердцем
За свой престол; враги возобновить
Бессильны разрушительную башню».
И вслед за тем рассказывает он
О чудесах, в лесу произведенных.
И прибавляет: «Небо нам сулит
Еще одно отрадное явленье.
Пройдет немного времени, как с Солнцем
Сойдется Марс в созвездье Льва; на землю,
Двойными опаленную лучами,
Дождя не упадет тогда ни капли;
Не всколыхнется ветром знойный воздух:
Вещает все ужасную засуху.
Немало бед произойдет от зноя.
Опасности для воинов твоих
В нем нет: в тени, на кровлях, у фонтанов
Они найдут желанную прохладу;
Но христиане будут задыхаться
В своей бесплодной, высохшей равнине:
И, Небом побежденных, египтянин
С лица земли сотрет их без следа.
События спокойно созерцая,
Стяжаешь ты победу без войны;
Но если все ж черкес высокомерный,
Одной резни лишь ведающий славу,
Испытывать твою отвагу станет,
Его необходимо укротить:
Все те бичи, что нам враги сулили,
На них же и падут по воле Неба».
Словами чародея убежденный,
Уж больше не боится Аладин
Вчера еще его страшившей рати.
Растут меж тем вокруг Солима стены;
Неутомимо-деятельный сам,
Усиленно торопит он работы:
В движенье непрестанном пребывают
Равно и гражданин и чужеземец.
Тем временем Готфрид благочестивый
Предпринимать не хочет приступ тщетный:
Успеха ждет он лишь от новой башни
И шлет рабочих в тот же самый лес,
Где добывалось дерево и раньше;
Идут они туда с зарей и вдруг,
Едва достигнув цели, цепенеют,
Охваченные ужасом мертвящим.
Так робкое в тиши и мраке ночи
Дитя тех самых призраков боится,
Что созданы его воображеньем
И уж везде мерещатся ему.
И вот в такой неодолимый трепет
Повергнуты рабочие, которым
Чудовища навстречу вырастают
Ужаснее и Сфинкса и Химеры.
Смятенные, растерянные, в стан
Они бегут обратно в беспорядке,
И сыплются забавные рассказы
О чудесах, привидевшихся им;
Однако же никто рассказам этим
Не верит, и Готфрид рабочих снова
Туда же прогоняет под охраной
Испытанных в бесстрашии людей.
Идут и те и эти; но едва
Густые тени чащи мрачной видят,
Как их сердца от ужаса и страха
Неудержимо биться начинают.
И все-таки они без остановки
Идут вперед, испуг свой прикрывая
Отвагой напускной; и наконец
Подходят к очарованному лесу.
Вдруг раздается страшный шум: так ревом
Вулкан земные недра оглашает;
Таков и ветра шум, и стоны волн,
О камни разбивающихся в море.
И слышатся еще в смешенье диком
Рыканье львов, свист змей, медвежьи крики,
И волчий вой, и переливы труб,
И грозные раскаты громовые.
Рабочие и воины бледнеют;
Приметы несомненные весь ужас,
Их души обуявший, выдают.
Не в силах поддержать в них смелость, разум
Не может их самих сдержать покорность:
Перед незримой силой отступая,
Они бегут, и эту слабость так
Один из них Готфриду объясняет:
«О государь, едва ль из нас найдется,
Кто б в этот лес осмелился проникнуть;
Весь Ад вооружился для его
Защиты, и лишь тот бы мог глядеть
На это безбоязненно, чье сердце
Оковано тройной броней алмазной:
Бесчувственным созданьем надо быть,
Чтоб вынести все тамошние звуки».
Внимательно прислушивался к этим
Признаниям Алькаст, Алькаст тот самый,
Чья дерзость безрассудная и смерть,
И смертных презирает в равной мере:
Чудовища страшнейшие, вулканы,
И молнии, и бури, все, что есть
Ужаснейшего в мире, все бессильно
Перед его отвагой загрубелой.
С презрительным движеньем и усмешкой
Он говорит: «Так я пойду туда,
Куда идти не смеет этот воин,
И вырублю один весь лес с его
Химерами и снами; не послужат
Препоной мне ни призраки, ни вопли:
Не побоюсь и Ада я, хотя бы
Он выставил все силы на защиту».
И, получив согласье от Готфрида,
Пускается он в путь. Уже доходит
До рокового леса он, уже
Его встречает грозный рев, но, страха
Не ведая, он наконец ступает
Ногой на очарованную землю:
И вдруг остановиться поневоле
Он должен перед огненной преградой.
И языки огня, и клубы дыма
Стеною восстают и, окружив
Весь лес непроницаемым оплотом,
К нему Алькасту доступ возбраняют.
В причудливейших образах огонь
Является растерянному взору
И там и здесь: то башнею, то замком,
То грозно-сокрушительным снарядом.
А сколько в самом пламени чудовищ
И призраков ужаснейших! Одни
Зловещие косые взгляды мечут,
Другие угрожают прямо смертью.
Алькаст бежит, бежит неторопливо,
Как по пятам преследуемый лев;
Но все же это – бегство, и впервые
Он страх перед опасностью изведал.
Дивится чувству новому Алькаст,
В душе им обретенному нежданно;
Сам на себя досадуя за это,
Он мучится раскаянием поздним.
Подавленный и омраченный, он
На свет уж не глядит высокомерно
И, от людей спеша уединиться,
Свою печаль и стыд скрывает в ставке.
Готфрид зовет его к себе: он ищет
Предлогов уклониться от свиданья;
Но, повинуясь наконец, идет,
Все так же головы не поднимая.
По сбивчивым ответам на расспросы
С трудом добившись истины, Готфрид
В недоуменье молвит: «Что же это?
Соблазн иль чудеса?» И продолжает:
«Средь вас найдется ль воин, что посмел бы
Проникнуть в удивительную тайну,
Пойти туда посмел бы и оттуда
Доподлинные вести принести?»
Прошли и день, и два, и три: пытались
Отважнейшие воины проникнуть
В ужасный лес; но все бежали прочь,
Охваченные страхом и смятеньем.
Тем временем Танкред успел воздать
Все почести возлюбленной Клоринде:
Подавленный и скорбью и тоскою
И не вполне окрепший, он готов,
В тяжелые доспехи облачившись,
В опасное пуститься предприятье.
Душа бодрит измученное тело,
И в силу превращается отвага.
В безмолвии идет он, на угрозы
Неведомые глаз не закрывая:
Выдерживает зрелище спокойно,
Без удивленья слушает весь шум
И чувствует подземные удары.
На миг его охватывает трепет;
Но все ж он входит в лес, где вдруг ему
Стена огня дорогу преграждает.
Колеблется Танкред и рассуждает:
«К чему мне здесь оружие послужит?
И должен ли я ринуться туда,
Где ждет меня заведомая гибель?
Бесспорно, если честь велит, не вправе
Я кровь свою щадить, но голос чести
Всегда я чутким сердцем отличу;
Меж тем оно его теперь не слышит.
Но если я вернусь, что скажет войско?
Где для работ мы дерева достанем?
Готфрид преодолеть желает все
Препятствия во что бы то ни стало,
И, может быть, другой найдется воин,
Отважнее Танкреда?.. Может быть,
Лишь видимость одна передо мною?..
Вперед!..» – и путь он продолжает смело.
В таком ужасном пламени, однако,
Не чувствует он жара никакого
И сам себе отчета дать не может,
Действительно ли призрак перед ним.
Пожар вдруг под его ногами гаснет:
Взамен нисходит облако густое,
Наполненное инеем и мраком;
Но вскоре исчезает и оно.
Танкред, хоть изумленный, но бесстрашный,
По-прежнему уверенно и твердо
Вступает в нечестивый этот лес,
Все уголки исследуя попутно;
Но никаких он больше ни чудовищ,
Ни призраков перед собой не видит:
Вперед его движенье затрудняет
Лишь полная извилин гущина.
Так шаг за шагом, наконец, поляны
Он достигает, посреди которой
Величественный в виде пирамиды
Растет уединенно кипарис.
Он к дереву идет и на коре
Таинственные знаки примечает,
Такие же, как некогда взамен
Письмен употребляли египтяне.
Средь чуждых начертаний он нежданно
Сирийские находит и читает:
«О воин безрассудный, что дерзнул
Свои шаги направить в царство смерти,
Будь милостив и не тревожь приюта
Несчастных, что навеки лишены
Сияния небесного; войною
Живым идти на мертвых не пристало».
Пока Танкред пытается проникнуть
В значенье слов загадочных, с шуршаньем
Вдруг пробегает ветер по листве;
А вслед за тем, сливаясь в хор унылый,
Из тайников лесных к нему и вздохи
И стоны, как от лютых мук, несутся:
И в сердце вызывает этот хор
То ужас, то печаль, то состраданье.
В конце концов он вынимает меч
И кипарис разит что есть в нем силы.
О, чудо! Из коры струей тягучей,
Окрашивая землю, льется кровь.
Герой дрожит; но, вскрыть желая тайну,
Удар он повторяет с той же мощью:
Тогда к нему протяжные стенанья,
Как будто из могилы, долетают.
Потом он слышит голос: «Ах, Танкред!
Остановись! Жестокой раной, варвар,
Недавно разлучил меня ты с телом,
Которое так дорого мне было;
Зачем еще и дерево терзаешь,
Судьбою мне назначенный приют?
Иль хочешь ты, жестокий, и в могиле
Над прахом ненавистным надругаться?
Клоринда – я; и не одна я в этом
Лесу теперь живу: и христиане
И мусульмане – все, что под стенами
Солима пали, силой тайных чар
Сюда заключены; здесь все деревья,
Что видишь ты кругом, живут и дышат;
Во всем лесу не сможешь ты срубить
И ветки, чтоб не сделаться убийцей».
Больной, когда драконы и химеры
Приснятся вдруг ему, хоть в них не верит,
Но все ж боится их и в глубине
Души, наполовину убежденный
В обмане чувств, все ж делает усилья
Бежать от наводящих страх чудовищ:
Так бредням поддается и герой,
Хоть борется рассудок здравый с ними.
Под властью чувства мощного его
Встревоженное сердце холодеет;
В невольном, непредвиденном движенье
Меч из руки дрожащей выскользает,
И чудится ему уже Клоринда
С упреком на губах похолодевших:
Не в силах он на кровь ее смотреть
И скорбные ее стенанья слушать.
Так мужество, которое не только
Опасности страшнейшие, но даже
И смерть была не в силах возмутить,
Сдалось перед обманчивою тенью,
Прикрывшеюся именем заветным.
Далеко отнесло порывом ветра
Упавший меч: владелец побежденный
Его, из леса выйдя, поднимает.
Не смеет возвратиться он, не смеет
Вновь посягнуть на пагубную тайну.
К Готфриду он является тотчас же
И, с силами собравшись, держит речь
Такую: «Государь, тебе по чести
Все чудеса я подтвердить обязан;
И адский шум, и призраки – все это,
Хотя невероятно, так и есть.
Передо мною вдруг возникло пламя,
Весь лес как бы стеною охватив,
Чудовища мне преградили доступ,
Но я преодолел препоны эти:
Орудия, чудовища, огонь —
Все сгинуло; потом еще я видел,
Как зимний иней и ночная тьма
Внезапно днем сменились лучезарным.
Сказать ли мне? Живут и говорят
Во всех деревьях души человечьи;
Я слышал, да, я слышал эти звуки,
Что сердце мне терзают до сих пор.
Когда мечом ударишь, как из раны
Телесной, кровь оттуда льется… Нет,
Я в слабости своей сознаться должен.
Нет… я и ветки там сломать не мог бы».
Сказал. Меж тем Готфрид благочестивый
Среди наплыва мыслей сам не знает,
На что решиться: самому ль вступить
В бой с чарами лесными напоследок,
Иль разыскать подальше лес, в котором
Деревьев нарубить бы можно было;
Но тут его пустынник извлекает
Из глубины раздумья, говоря:
«Брось смелые намеренья! Иная
Рука в деревьях чары одолеет.
Уж судно роковое паруса
Спускает на пустынном побережье;
Тот воин, что победу нам доставит,
Постыдные уж цепи разорвал:
Сион под нашей властью будет скоро,
И сарацин испустит вздох последний».
Лицо его все в пламени, и голос
Сильнее, чем у смертного, звучит;
Готфрид надежде новой предается,
В душе пылая рвеньем небывалым.
Меж тем, вступив в созвездье Рака, солнце
Жжет землю нестерпимыми лучами;
От зноя изнемогшие, к труду
Уж никакому люди не способны.
Бессильно звезд, земле благоприятных,
Влияние спасительное; звезды,
Несущие лишь беды и напасти,
Одни преобладают в небесах:
Живое все становится добычей
Нещадно пожирающего зноя;
За днем горючим ночь гнетет и давит,
И новый, злей, ее сменяет день.
Восходит солнце утром не иначе,
Как скрытое кровавыми парами,
Предвестниками гибельного дня,
И не иначе вечером заходит,
Как в пятнах красноватых, предвещая
Такой же день ужасный и на завтра.
Так день за днем насущная беда
Уверенность дает в беде грядущей.
Под жгучими лучами засыхая,
Со стебля осыпается цветок,
Желтеет лист, трава, сгорая, чахнет,
Земная разрывается кора
И родники живые иссякают.
Небесный гнев карает всю природу,
И даже облака – не что иное,
Как лишь воспламененные пары.
Зияет черной печью свод небесный,
И не на чем остановиться глазу;
Прохладный ветер, скованный, притих
В своих пещерах; воздух неподвижен:
По временам лишь знойное дыханье
Пустыни африканской донесется
И, всколыхнув его слегка, лишь пуще
Удушливой струей воспламенит.
Бесследно сожжены ночные тени
Палящим блеском дня: ночной покров
Насыщен вредоносными парами
И пламенем комет, скиталиц мира.
О бедная земля! Тебе в росе
Жестокое отказывает небо;
Твои цветы и травы, умирая,
Напрасно ждут Авроры чистых слез.
На крыльях ночи к смертным не слетает
И мак на них не сыплет сладкий сон;
Они к нему взывают голосами
Угасшими, но глух он к их моленьям.
Из этих всех бичей страшнейший, жажда,
Нещадно пожирает христиан:
Отравленные варваром фонтаны
Болезни лишь приносят им да гибель.
Сокровищница вод кристально-чистых,
Теперь уж оскудевший Силоам
В беспомощно-медлительном теченье
Едва свой путь песчаный орошает.
Что в нем! И Эридана в половодье,
И Ганга, даже Нила самого,
Дарящего Египту удобренье,
Едва ли бы для христиан хватило.
И в их воображенье воспаленном
Видения былого воскресают
И те ручьи, что, серебром сверкая,
Струились в мураве, и родники,
Змеившиеся резво по полянам;
Но радостные некогда картины
Питают в них отчаяние только
И жалобы усугубляют их.
Те воины, что до сих пор природу
Во всех ее препонах побеждали,
Не гнули спин под тяжестью доспехов
И смело вызывали смерть на бой,
Теперь отягощают землю сами,
Лишенные и мощи и отваги:
Неведомый огонь течет в их жилах
И злобно жжет и пожирает их.
Скакун, утратив гордость, изнывает
Над жалкою безвкусною травою;
Нетверд он на ногах, и голова
Беспомощно на стройной шее виснет.
Не чувствует он больше жала славы
И собранных не вспоминает лавров;
Его как шелк лоснившаяся кожа
Теперь – лишь груз постылый для него.
Хозяина и дома знать не хочет,
Как будто и забыл их, верный пес;
В пыли бессильным телом разметавшись
И не переставая задыхаться,
Старается он тщетно успокоить
Внутри его сжигающее пламя:
Тяжелый воздух вместо освеженья
Сильнее только легкие гнетет.
От зноя так земля изнемогала,
И гибли смертные на ней. Забыв
И думать о победах, христиане
Последних опасаются несчастий.
Со всех сторон в их стане раздаются
Лишь жалобные возгласы: «На что ж
Надеется Готфрид? Чего он ждет?
Чтоб и следа от нас тут не осталось?
Где силы он возьмет, чтоб одолеть
Твердыни вражьи? Где на то снаряды?
Иль мало было знамений? И гнева
Небесного он видеть не желает?
А между тем все эти чудеса,
Чудовища и призраки все эти,
И пламенное солнце напоследок
Нам на него указывают ясно.
Презренный, низкий сброд, каким он нас
Считает, без сомнения, должны ли
Мы все до одного погибнуть, лишь бы
Ему сберечь и скипетр и корону?
Он упоен своей верховной властью;
Однако стоит ли она и счастья
И жизней тех народов, что ему
Обязаны покорностью безмолвной?
Э, вот он, муж благочестивый, вот
Прославленное милосердье! Варвар!
Чтоб суетным почетом наслаждаться,
Соратников своих он забывает.
Фонтаны и ручьи для нас иссохли;
К нему ж течет вода из Иордана,
И с ней мешая критское вино,
Среди друзей он за себя спокоен».
Латиняне так ропщут; в то же время
В уме своем решает грек коварный:
«Зачем мне гибнуть здесь? Зачем мне ждать,
Чтоб никого из наших не осталось?
Пусть, если хочет, роет здесь могилы
Себе и всем латинянам Готфрид!»
Решил и под покровом ночи темной
Украдкой удаляется из стана.
Побег его наутро уж не тайна,
И многие прельщаются примером:
Пришедшие сюда за Адемаром,
Клотарием и прочими, кого
Нет более в живых, теперь считают
Себя освобожденными от клятв:
Все думы их направлены к побегу,
И некоторых нет уже с рассветом.
Готфрид и слышит все, и видит. Мог бы
Вооружиться он верховной властью,
Но строгих мер душа его не терпит;
Он руки поднимает к небесам,
В них взор, горящий рвением, вперяет
И с верою, что двигает горами
И обращает вспять движенье рек,
Смиренную мольбу возносит Богу:
«О Господи и Отче мой! В пустыне
Ты ниспослал росу народу с неба,
Дал смертному Ты власть извлечь из камня
Струю воды: яви же мощь Свою
И нам! Прости нас, духом ослабевших,
И голосу лишь милосердья внемли!
Мы – воины Твои, и хоть за это
Нас, грешников, помилуй и спаси!»
Мольба взлетает быстро к небесам.
Предвечный внемлет ей и благосклонно
На воинов измученных взирает;
Он хочет положить предел напастям
И говорит: «Сражаясь за Меня,
Они уж испытали бед немало.
И Ад и мир, соединясь, и силу
И хитрость проявляли против них.
Повелеваю Я: да воцарится
Отныне в той стране порядок новый
И да откроет воинам Моим
Судьба отныне путь к одним удачам.
Пусть дождь польет; пусть возвратится в стан
Из стран чужих непобедимый воин
И явится затем лишь египтянин,
Чтоб довершить его триумф и славу».
И задрожал от голоса Его
Небесный свод, и всколыхнулся воздух,
И дали отклик трепетом покорным
И океан, и пропасти, и горы;
И молнии заискрились внезапно,
И гулко пронеслись раскаты грома:
Восторженными криками весь стан
Приветствует ниспосланную милость.
А тучи все сгущаются; уж это —
Не плотные земные испаренья:
Они на землю сходят прямо с неба,
Открывшего все родники свои.
Нежданно ночь вселенную объемлет,
Малейший проблеск света поглощая;
Неудержимый дождь ручьи поит
И быстро всю равнину заливает.
Так знойным летом птицы водяные
На берегах иссохших ждут дождя:
Неистовыми криками как будто
Зовут его и крылья расстилают,
Чтоб первых даже капель не лишиться.
И хлынул дождь, и птицы уж в воде
Ныряют, выныряют, вновь ныряют
И сладкой упиваются прохладой.
И так же христиане с ликованьем
Сбирают дар небес, струю живую:
Спешат наполнить ею чаши, шлемы
И жадными ее глотками пьют.
Одни лицо окатывают ею,
Другие в ней полощутся руками;
А кто предусмотрительнее, те
Ее запасы делают в кувшинах.
Иссохшая, бесплодная земля
В раскрывшиеся недра столь же жадно
Живительную впитывает влагу
И ходами, сокрытыми для взора,
Ее распространяет в глубине;
Она же, там круговращаясь, вскоре
Питательной струей былую свежесть
И жизнь вливает в травы и в цветы.
Природа возрождается и краше
Становится, чем ранее была:
Так юная красавица, лекарством
Спасенная от угрожавшей смерти,
Вновь розы видит на своих щеках
И, быстро забывая о болезни,
Уборы за уборами меняет,
Сама собой и тешась и любуясь.
Иссякли наконец потоки неба:
Вновь солнце появляется на нем
И кроткими весенними лучами
Ласкает к жизни вызванную землю.
О вера, добродетелей царица!
Порядок изменяешь ты времен,
Мятежный успокаиваешь воздух
И над судьбой враждебной торжествуешь.
ПЕСНЯ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ