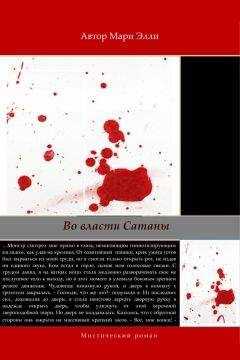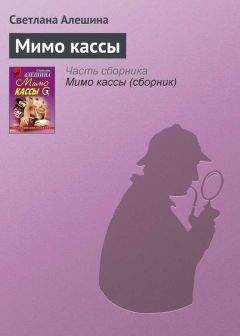Федор Кнорре - Без игры
— Очень плохо, — сказала, пряча глаза, сестра. — Лучше уж вы не думайте ни о чем, только что очень-очень плохо.
— Я знаю, знаю, что плохо, но хоть есть какая-нибудь маленькая надежда, ведь бывает так, а?
— Нет, нет, не думайте вы пока ничего... они сейчас выйдут, вы все узнаете...
Она томилась не меньше самой этой Гали, которую ей приказали задержать и напоить успокоительным. Она сама напилась бы чего угодно, только бы все это поскорее кончилось, она знала, что делается через две комнаты дальше по коридору.
— Он очень осторожно ездит, — лихорадочно-торопливо говорила Галя. — Если что-то случилось, он не виноват, я головой отвечаю. Я всегда немножко волнуюсь, когда он в вечернюю смену выезжает на линию, мало ли как другие ездят, бывают такие лихачи, вот сюда, по-моему, идут. Господи...
Два человека в белых халатах размеренными медленными шагами, будто их насильно вели под конвоем по коридору, действительно подходили к двери.
Они только что тщательно и плотно перевязали убитому водителю такси Иванову перерезанное проволокой горло, надели ему другую рубашку вместо испачканной и смыли все следы крови. Причесывать его не было надобности, он был коротко острижен, волосы нисколько не растрепались.
Теперь можно было позвать к нему жену. Восемнадцатилетнюю вдову Галю Иванову.
Отец Андрея, узнав о возвращении сына, приехал вечером на дачу, к которой он вообще был совершенно равнодушен и где даже летом редко бывал. Теперь же, пока семья на даче доживала ради «воздуха» и здоровья жены чуть ли не до самого Нового года, он жил один в пустой городской квартире. Там он чувствовал себя неплохо. Давно уже место, которое он занимал на работе, называлось не должностью, а постом, и почти так же давно у него не было никакой личной жизни. Он любил сына так сильно, что стеснялся своей любви и старался, довольно удачно, ее не очень показывать. Видел он его редко и сознавая, что это вовсе бесполезно, а может быть, и нехорошо, не мог удержаться и иногда делал сыну подарки. Так он однажды позвонил ему по телефону из служебного кабинета и сообщил, что тот может поехать и получить машину, и с суховатым смешком добавил: «Это тебе... Я тебе... День рождения, кажется? Ну вот», — и, застенчиво улыбаясь, повесил трубку.
С глазу на глаз объявить: «Я дарю тебе машину» — ему было совестно. Как будто он старался задобрить сына и возместить недоданное внимание, непоказанную любовь — простой взяткой, подарком. Участвовать в воспитании сына он не мог, даже если бы хотел, — все его время, мысли и силы высасывала работа. Сама работа, оценка расстановки сил, опасения и надежды на будущее — все связанное опять-таки с работой.
Зинку он тоже любил и ей мог делать подарки в открытую. Она визжала от восторга, бросалась ему на шею, потом вертелась и прохаживалась на разные лады в подаренной шубке (конечно, ею самой выбранной), изображая знакомых или киноактрис, кто как бы входил и садился, закидывая ногу на ногу, в такой шубке. Это его забавляло, потому что все было, в общем, довольно безобидно и ребячливо; ее целеустремленная жадность — заполучить шубку — и шумный восторг, утихавший бесследно через две недели. А через полгода обнаруживалось, что эта, осчастливившая ее, пестрая шубка, которую она целовала в день ее добычи, уже подарена или обменяна на пояс с шапочкой или какую-нибудь другую чепуху.
У него был вид очень усталого, постоянно скрывающего свою усталость человека, и говорил он ни тихо, ни громко, редко повышая голос. Он никогда не кричал. Ему не нужно было держать себя с начальственным достоинством. От возмущения каким-нибудь безобразием на работе у него только голос становился неприятно скрипучим. Уважать его все окружающие давно привыкли, как привыкли к его хмурому, как будто утомленному виду.
Друзей у него не было. Были лет тридцать с лишним назад, но их уже не было в живых. Теперь у него были приятели. Были подчиненные. Были вышестоящие товарищи, которые не то что покровительствовали, но благоприятствовали ему, вот и все.
С женой Анной Михайловной они составляли вполне благополучную крепкую семью, как бывает с людьми, которым делить нечего и не из-за чего ссориться ввиду взаимного снисходительного, прочно установившегося внимательного, даже участливого равнодушия. Они жили каждый на своей территории, с четко обозначенной границей, за которую никто не переступал. Пограничные конфликты были исключены совершенно. Чужая территория была обоим не нужна. Каждый из них со скуки бы помер на этой чужой земле.
Ах да... Была когда-то... полтора десятка лет назад, давным-давно, была у него секретарша Бася. Великолепная секретарша, точная, невозмутимая, вежливая, подтянутая. Память у нее была безукоризненная, она умела стенографировать, спокойно и находчиво справлялась с запутанными или неловкими ситуациями, у нее были прекрасные светлые волосы и мягкие руки с длинными пальцами, и, кроме того, она, кажется, его любила, и они очень привыкли друг к другу за годы работы. В год крупных перемен, когда вышестоящий руководитель лишился своего поста, и все смешалось так, что, казалось, и он сам может полететь при реорганизации, был один особенно тяжелый поздний вечер, когда все решалось и решилось, и он вернулся поздно вечером, почти ночью, в министерство, прошел через пустые комнаты и гулкий пустынный зал в свой кабинет, чтоб положить бумаги в сейф, дверь сама отворилась ему навстречу, и он в изумлении остановился с приготовленным, уже нацеленным на скважину ключом в поднятой руке. Бася дожидалась его до ночи в кабинете. Они стояли друг против друга — она в своем секретарском предбаннике, он в полутемной зале. «Ну что?» — сухими губами, почему-то шепотом выговорила она, потому что по лицу его никогда ничего нельзя было угадать, и он вдруг все понял и совсем не по-деловому, хотя она знала до тонкости все подробности происходящего, ответил совсем по-домашнему, как мог бы сказать жене, — только жена-то ничего не знала и не интересовалась ходом его дел, — к своему великому удивлению ответил: «Все, все. Обошлось... Мы в порядке...» И тогда она вдруг схватилась за голову и разрыдалась. А он пошел наливать ей из графина воды, и, когда она, сидя в кресле, пила воду, стуча зубами о край стакана, он робко погладил Басю по голове, и она вдруг поцеловала ему руку. В оправдание себе она все повторяла: «Это было бы так несправедливо...»
Потом, отпуская каждый раз своего шофера, он бывал у нее, в ее маленькой, но удивительно веселой и приветливой комнатке и однажды вдруг догадался наконец и притащил в портфеле бутылку вина и пакет с закусками. И она все это впихнула ему обратно в портфель, застегнула замки, и ему пришлось потом все нести обратно. А на маленьком столике, к его приходу покрытом салфеткой, у нее всегда стоял чайник, обмотанный вафельным полотенцем, были расставлены вазочки с пастилой, вареньем или клюквой в сахаре. Это были лучшие вечерние часы его личной жизни. И так продолжалось года два, до тех пор пока однажды, перед тем как ему уходить, она заплакала, во второй раз на его глазах. Стоя в дверях, плакала спокойно и горько и сказала, что выходит замуж... Надо же когда-нибудь выйти замуж. И он сам понимал, что действительно нужно же ей замуж. И как хорошо бы было, если б она вдруг оказалась его женой. Но сделать ничего нельзя было... И они встретились еще всего один раз, но почти не могли разговаривать, потому что она все время плакала... А лет через шесть он мельком увидел ее у входа в метро. Она очень пополнела и была уже вообще — не она, и он почувствовал облегчение, убедившись, что она его не узнала или не заметила.
Теперь все это было так далеко, так странно и так на него не похоже, что изредка, мельком вспомнив времена Баси, он не совсем уверен был, что во всем происшедшем участвовал он сам, а не какой-то другой странный, хотя и хорошо знакомый ему человек.
Теперь он жил большею частью один в пустой городской квартире. Жил, то есть ночевал, и, прежде чем отправиться на работу, пил утром кофе, а вечером, вернувшись из министерства, читал или полчасика смотрел телевизор перед сном. Приходящая старуха мыла за ним посуду — две чашки и три тарелки — и кое-как вытирала пыль.
И вот только изредка, как сегодня, он приезжал на дачу, где без дела он чувствовал себя в гостях, не зная, куда деваться.
По дороге он все думал, как ему следует разговаривать с сыном. Что ему посоветовать? И нельзя ли ему что-нибудь подарить. И ничего не мог надумать.
При встрече он поцеловался с сыном и потом во время семейного ужина каждый раз, поднимая глаза от тарелки и встретясь глазами с Андреем, исподлобья улыбался ему улыбкой, которая казалась хмурой и несколько ироничной, хотя на самом деле была застенчивой и нерешительной.
Ужин, как всегда, проходил скучновато, несмотря на Зинкину болтовню. Он за долгие годы совсем отвык и разучился разговаривать с домашними. Они не были ни его сотрудниками, ни подчиненными, ни представителями смежного ведомства, ни тем более руководителями, и получалось, что, сидя дома, дела не делаешь и попусту теряешь время.