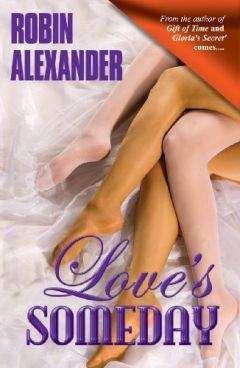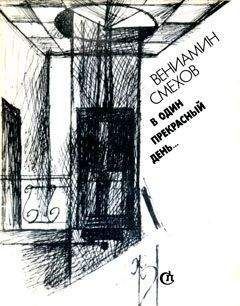Гюнтер де Бройн - Присуждение премии
После утреннего разговора в кухне с Тео она прониклась его возмущением и нанялась в прислуги к одному социалистическому архитектору, который признавал чай лишь в тончайшем китайском фарфоре, каковой она сервировала и мыла, покуда все нараставший страх перед черепками не заставил ее бежать к одному врачу, чьи приемные покои надо было убирать с шести до девяти утра, что имело следствием сон на лекциях и провал на переходных экзаменах.
Отчисление из института было для нее облегчением: «Теперь я всего-навсего твоя жена».
Днем она работала телефонисткой в оптовом химическом магазине, вечером перепечатывала шестнадцатый вариант первой главы или слушала шестой вариант второй или первый — пятой.
Когда Пауль говорил, что хочет ей почитать, он бывал счастлив, а она пугалась. Она отодвигала машинку, откладывала посудное полотенце, оставляла суп недоваренным, садилась, внимательно слушала — и начинала мучиться. Потому что никогда не знала, как ей держаться, чтобы не мешать его счастью.
У нее всегда должно быть время для него, сию же минуту, сразу же, это не подлежало сомнению. Она не смела ерзать на стуле, даже просидев несколько часов, вставать, чтобы опустить шторы, подбросить угля или выключить свет в коридоре. Не смела также вязать, или шить, или подпиливать ногти. Обязана была изображать внимание, смотреть на него, когда он отрывал глаза от текста, чтобы проверить, какое впечатление производит прочитанное, обязана была проявлять взволнованность, улыбаться, показывать, что испытывает боль. Все это она умела. Трудно было только в нужный момент делать что нужно, поскольку она никогда не была уверена, что воспринимает прочитанное так, как задумано у него.
Но самое большое мучение начиналось потом. Когда он умолкал, откладывал в сторону последний лист, брал сигарету и выжидательно смотрел на нее.
Утром в кухне она жаловалась Тео: никогда она не постигнет, как ей держаться, чтобы он был доволен, — жалобу эту Тео считал неправильной в самой основе. Вместо того чтобы спрашивать, умно ли было говорить то-то и то-то, лучше бы она заботилась о правде! Она должна говорить то, что действительно почувствовала, только это может помочь Паулю!
Хороший, прямолинейный (чтобы не сказать: наивный) Тео! Он всегда знал, что хорошо, но никогда — что правильно. Он понятия не имел о неуверенности, охватывающей других, когда нужно судить о прочитанном.
Ирена достаточно часто сталкивалась с тем, что люди, более сведущие, чем она, считали пошлятиной вещи, которые ее волновали, а то, что они называли искусством, нагоняло на нее скуку. Как высказать мнение, если у тебя его нет, как правдиво выразить свои чувства, если, слушая, надо следить за тем, как ты держишься и к тому же не доверяешь собственным ощущениям, подстерегаешь их возникновение, пытаешься их корректировать (может быть, в неверном направлении) и тем самым уничтожаешь их на корню: ведь нельзя же забыть, что в течение этого часа их надо будет еще и сформулировать. Что тут правда, что честность? Возможно, только вот это: все, что Пауль писал, — хорошо, по той единственной и каждому, кто любит, понятной причине, что писал это он. Конечно, так не судят об искусстве. Ну и ладно, что ей до искусства! Оно имело для нее значение щепотки сахара, добавляемой, говорят, хорошими хозяйками в каждое блюдо из чувства долга, чтобы ни в чем не оплошать, полагаясь при этом на чужой опыт, который никогда не становится собственным. Ведь сладость не ощущается, в ее необходимость нужно лишь верить, как нужно верить в необходимость искусства, которое, говорят, только и придает человеческой жизни тонкость и завершенность — если дело ограничить крошечной щепоткой. Нет, искусство для нее значило мало. Но Пауль значил для нее все. И то, что он писал, было для нее не искусством, это был сам Пауль, часть его, такая же, как борода, которую он к тому времени отрастил, как его тяжелая, качающаяся походка, его манера есть, его бас. Она должна была бы отречься от своей любви к этому медведю, чтобы счесть плохим то, что он писал. И она хвалила.
А ее ругали. Он называл ее подлизой, сестрой милосердия, которая щадит несчастного графомана, безмозглой соглашательницей, высокомерной дурой, считающей его способным только на такую серятину, и, наконец, что уж вовсе было ей непонятно, обвинял ее в жадности, говорил, что ее интересует только одно: побыстрее состряпать и поскорее продать книгу, потому что она думает лишь о дорогой колбасе, апельсинах и новых занавесках.
Но критика, говорила она утром Тео в кухне, критика, которую она с трудом придумывала, действовала еще хуже. Он так низко опускал голову, что едва видел Ирену сквозь заросли своих бровей, и тихо, со старательно подавляемой злостью, просил ее конкретизировать свои замечания, что она и пыталась сделать, но сразу же отказывалась от них, когда он начинал защищать свое детище таким тоном, как будто она сказала, что он бездарь, портач, самонадеянный олух деревенский, которому лучше бы вернуться с покаянной головой к своим переметам (чего у нее и в мыслях-то не было).
Каждый раз заново, словно впервые, пугаясь этого тона, она искала умиротворяющих слов, но находила лишь вялые или не находила их вовсе, боялась ненависти, испытываемой им, собственно, к самому себе, но переносимой на нее, и прибегала в отчаянии самозащиты к последнему оружию — слезам, которые и в эпоху равноправия еще выполняют свою задачу. Ребенок, который не плачет, не получает грудь, и женщина, отданная на произвол начиненного комплексами автора, должна уметь плакать, чтобы гасить слезами пламя ярости. Что Ирене всегда и удавалось.
Ее утренние жалобы превращались в обвинения, призывы о помощи— в вопли отчаяния. Ее единственной надеждой была надежда на окончание и одобрение книги.
Долгожданный день оказался дождливым, когда с раннего утра допоздна нужно жечь свет и выносить монотонный стук дождя в окна. Бывшая студентка Ирена сидела у коммутатора в проходной народного предприятия «Пралине» перед раскрытым учебником польского языка, но не занималась польским, потому что должна была выписывать пропуска, снимать телефонную трубку, говорить «Пралине, добрый день, соединяю», заказывать междугородные разговоры, а в паузах делать хронометрические расчеты, расчеты со многими неизвестными.
Ибо откуда было ей знать, действительно ли Пауль в половине десятого вышел из дому, пошел пешком или поехал, действительно ли он в десять добрался до издательства, а не устроил себе привал в кабачке, не заставили ли его часами ждать (как он заставлял издателя ждать месяцами), сказали «да», или «да, но», или же «нет», или «нет, но», сохранит ли он спокойствие или будет кричать, ругаться, спорить, выпил ли он свой шнапс заранее, или вытащил его из кармана во время разговора, или же выпил после, подпишет ли все молча или предъявит нелепые требования, соберется ли — и когда — сообщить ей о результатах разговора. Неизвестные за неизвестными.
В половине восьмого начиналась ее служба — с завтрака, который проходил без помех, потому что все потенциальные абоненты тоже завтракали. В восемь начинались звонки, около девяти они достигали своего апогея, после десяти шли на убыль, в полдень совсем прекращались и только после двух учащались опять, не достигая, однако, утренней интенсивности. Так как телефонные часы пик совпадали с посетительскими, нервы Ирены подвергались нагрузке, превзойти которую могла лишь нагрузка так называемых свободных вечеров, когда нервировали ее не сотня абонентов с двумя десятками посетителей, а только один человек — Пауль, пользовавшийся ею как закупщицей, машинисткой, парикмахершей, слушательницей, критиком, уборщицей, поварихой и любовницей, порой до глубокой ночи, которая кончалась для нее в шесть, в то время как он мог продлить ее до полудня, продлил, возможно, и в решающий день, когда в издательстве готовились ознакомить его с судьбой четвертой редакции его романа (а тем самым и с судьбой его самого и телефонистки).
— Пралине. Добрый день. Соединяю.
— Вам к кому? Ваше удостоверение, пожалуйста.
— Пралине. Добрый день. Соединяю.
— Эрфурт, четыре-четыре — пять-три. Придется подождать!
— Пралине. Добрый день... Тео? Что случилось?
Ничего не случилось. Все прошло хорошо. Милый, несколько высоковатый голос кухонного друга, который ежеутренне с шести до семи, пока она готовила Паулю обед, давал ей бесполезные советы и проповедовал право каждого на счастье, теперь утешал ее: он, Тео, сумел навязаться ему, Паулю, в сопровождающие. Благоухающий, правда, шнапсом, но причесанный, аккуратно одетый, собранный, немногословный, он сидит теперь в издательстве и слушает — кажется, внимательно. С ним были предупредительны, сказали большое «да» и совсем маленькое «но», поправки займут у него не больше недели, договор готов, деньги могут быть переведены сразу же после подписания, он, Тео, выскользнул только для того, чтобы известить ее и чтобы она могла спокойно обедать, ибо час-другой это еще протянется, собственно, она может сразу же увольняться, с переводческими курсами все в порядке, он еще раз удостоверился, первого числа ее ждут, это рабство в эпоху эмансипации человека он тоже не может больше видеть, и если ей снова понадобятся совет и помощь, она их найдет у него: завтра или в будущем году, в семидесятом или в восемьдесят четвертом. И, не оставляя паузы для ответа, он попрощался — тогда только по-дружески.