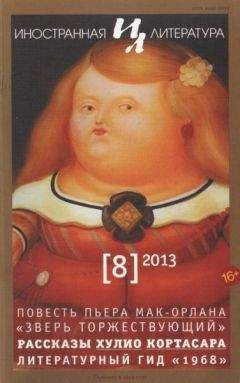Хулио Кортасар - Последний раунд (рассказы и эссе из книги)
О рассказе и вокруг него
Lеon L. affirmait qu’il n’y avait qu’une chose de plus еpouvantable que l’Epouvante: la journеe normale, le quotidien, nous-mеmes sans le cadre forgе pаr l’Epouvante.
— Dieu a crее la mort. Il a crее la vie. Soit, dеclamait LL. Mais ne dites pas que c’est Lui qui a egalement crее la «journеe normale», la «vie de-tous-les-jours». Grande est mon impiеtе, soit. Mais devant cette calomnie, devant ce blaspheme, elle recule.
Piotr Rawicz. Le sang du cielВ свое время Орасио Кирога сочинил «десять заповедей образцового рассказчика», уже самим этим названием как бы подмигивая читателю. Если девять из его предписаний достаточно тривиальны, то последнее кажется мне блистательным: «Пиши так, как если бы рассказ был интересен лишь узкому кругу твоих персонажей, одним из которых мог бы стать и ты сам. Это единственный способ вдохнуть в рассказ жизнь».
Глубочайший смысл этого совета заключается в идее «узкого круга», определяющей замкнутую форму рассказа — то, что я однажды назвал его сферичностью. Но к этой идее примыкает еще одна, не менее важная: утверждение, что писатель мог бы стать одним из персонажей, а значит, сама ситуация, порождающая рассказ, должна возникать и развиваться внутри замкнутой сферы, выплескиваясь затем наружу, причем внешние границы рассказа не задаются заранее, как, допустим, при лепке шара из глины. Иными словами, моменту написания рассказа должно так или иначе предшествовать ощущение некоей сферы, которая словно бы обволакивает рассказчика, и тот всеми силами старается раздвинуть эту оболочку, пока в конце концов она не растягивается до предела, что как раз и придает ей идеальную сферическую форму.
Я говорю о современном рассказе, о том, что ведет свою историю, скажем, от Эдгара Аллана По и являет собой безупречный механизм, способный выполнять повествовательную функцию с максимальной экономией средств; отличие такого рассказа от того, что французы называют nouvelle, а англосаксы — long short story, как раз и состоит в том, что лучшие образцы этого жанра — это своего рода бешеные скачки наперегонки со временем, достаточно вспомнить «Бочонок амонтильядо», «Блаженство», «Круги руин» и «Убийц». Это не означает, что повести не могут быть столь же совершенными, однако для меня очевидно: архетипические рассказы последних ста лет суть результат безжалостного исключения всех элементов, присущих nouvelle и роману, таких, как вступление, пространные описания, неспешное развитие сюжета и тому подобные повествовательные приемы. И хотя некоторые повести Генри Джеймса или Д. Г. Лоуренса могут считаться не менее гениальными, чем упомянутые рассказы, все же следует признать, что у этих авторов было больше тематической и языковой свободы, и это несколько облегчало их задачу, тогда как в рассказах, написанных на одном дыхании, неизменно поражает то, что их мощное воздействие на читателя, ничуть не меньшее, чем воздействие самой отшлифованной nouvelle, достигается с помощью крайне скудного набора средств.
То, о чем пойдет речь дальше, частично основано на личном опыте, изложение которого, быть может, продемонстрирует — так сказать, с внешней стороны сферы — кое-какие постоянные признаки, определяющие рассказ данного типа. Вновь напомню слова моего собрата Кироги: «Пиши так, как если бы рассказ был интересен лишь узкому кругу твоих персонажей, одним из которых мог бы стать и ты сам». Идея о том, чтобы стать одним из персонажей, обычно воплощается в повествовании от первого лица, сразу переносящем нас внутрь сферы. Много лет назад в Буэнос-Айресе Ана Мария Барренечеа дружески упрекала меня в злоупотреблении этим приемом, имея в виду, если не ошибаюсь, рассказы из книги «Секретное оружие», а впрочем, возможно, из «Конца игры». Я пытался возразить, что в некоторых рассказах повествование ведется от третьего лица, но она стояла на своем, и мне пришлось с книгой в руках доказывать обратное. В конце концов мы сошлись на том, что третье лицо, по-видимому, действовало подобно замаскированному первому и потому в памяти весь цикл рассказов остался как нечто единообразное.
Тогда же, а может чуть позднее, я нашел своего рода объяснение этому явлению, подойдя к нему с противоположной стороны. Я знаю, что когда пишу рассказ, то инстинктивно стремлюсь к тому, чтобы он каким-то образом отделился от меня как демиурга, обрел самостоятельную жизнь и чтобы у читателя возникло или могло возникнуть ощущение, будто он читает нечто, родившееся само по себе, само в себе и даже из самого себя, разумеется, при посредничестве творца, который, однако, ничем не должен выдать своего присутствия. Я вспомнил, что меня всегда раздражали рассказы, чьи герои держатся как бы в сторонке, пока автор разъясняет (пусть даже просто разъясняет, не вмешиваясь в качестве демиурга в ход событий) подробности либо комментирует переход от одной ситуации к другой. Признак великого рассказа для меня заключается в том, что мы могли бы назвать его автаркией, когда возникает ощущение, что он отделился от своего автора, подобно тому как мыльный пузырь отделяется от гипсовой трубочки. Парадоксально, но повествование от первого лица представляет собой самый простой и, наверное, наилучший способ решения этой задачи, поскольку повествование и действие тут суть одно и то же. Даже когда речь заходит о третьих лицах, рассказчик сам непосредственно участвует в событиях, он — в мыльном пузыре, не в трубочке. Видимо, поэтому в своих рассказах от третьего лица я почти всегда старался не выходить за рамки повествования sensu strictо и не устанавливать какую-то дистанцию между автором и героями, то есть не давать оценку происходящему. Попытка вмешаться в повествование посредством чего-то, что собственно повествованием не является, — по-моему, пустая затея.
Это неизбежно подводит нас к вопросу о повествовательной технике, если понимать ее как особую связь между рассказчиком и рассказываемым. Лично мне эта связь всегда представлялась своего рода поляризацией, то есть совершенно очевидно, что существует некий мостик, ведущий от желания выразиться в слове к самому слову, но одновременно этот мост отделяет меня, писателя, от написанной мною вещи, вплоть до того, что рассказ, как только поставлена последняя точка, навсегда остается на другом берегу. Замечательные строки Пабло Неруды «И все мои детища порождены в упрямом боренье» кажутся мне лучшим определением процесса, в котором писать в известном смысле означает отторгать, изгонять своих детищ-мучителей, помещая их в условия, где они парадоксальным образом обретают универсальность и в то же время находятся на другом конце моста, где уже нет рассказчика, выдувшего мыльный пузырь из своей трубочки. Возможно, будет преувеличением утверждать, что любой в полной мере удавшийся рассказ, и особенно рассказ фантастический, — продукт невротического состояния, что это кошмары или галлюцинации, нейтрализованные и вытесненные во внешний мир; но так или иначе в любом достойном упоминания рассказе эта поляризация ощущается, как будто автор хотел полностью и как можно скорее освободиться от своего детища, изгнать его единственно доступным для себя способом: воссоздав на бумаге.
Подобного результата не достичь вне условий и атмосферы, сопутствующих указанному отторжению. Попытка освободиться от назойливых детищ с помощью голой повествовательной техники, возможно, и приведет к созданию рассказа, но без основополагающей поляризации, очистительного отторжения литературный результат будет именно литературным; рассказу будет недоставать атмосферы, которую не объяснить никаким стилистическим анализом, особой ауры, подчиняющей себе читателя так же, как на другом конце моста она уже подчинила себе автора. Способный новеллист может сочинять добротные с литературной точки зрения вещи, но если он хотя бы раз испытал чувство избавления от рассказа, словно от взбесившегося зверя, то знает разницу между одержимостью и литературной стряпней. В свою очередь хороший читатель безошибочно отличит то, что рождено на необъяснимой и гибельной территории, от простого mеtier. Наверное, самый существенный отличительный признак — о чем я уже упоминал — это внутренняя напряженность интриги. Способом, который не заменит никакая техника, ибо его невозможно ни преподать, ни освоить, великий рассказ вбирает в себя эту одержимость зверя, чье призрачное присутствие ощущается с первых же фраз, завораживая читателя, обрывая его контакт с тусклой действительностью и погружая в более насыщенную и властно влекущую к себе атмосферу. Из такого рассказа выходят, как из любовного акта, без сил, утратив связь с внешним миром, куда возвращаются постепенно, широко раскрыв глаза от удивления, от медленного узнавания, нередко с облегчением и даже смирением. Человек, написавший подобный рассказ, прошел через более мучительный опыт, потому что от его способности излить эту одержимость зависело, вернется он или нет в более сносные условия; и напряжение рассказа родилось из лихорадочного отбрасывания промежуточных идей, подготовительных этапов, фальшивой риторики — то была в некотором смысле роковая операция, и времени на раздумья не оставалось: зверь наседал, норовил вцепиться в горло, и он с трудом успел отбросить его отчаянным взмахом руки. Во всяком случае, именно так мне довелось писать многие рассказы, и хотя некоторые из них относительно длинны, как, например, «Секретное оружие», вездесущая тоска целый день напролет вынуждала меня работать в бешеном ритме, пока рассказ не был написан, и только после этого, даже не удосужившись перечитать его, я выскочил на улицу и зашагал, наконец-то ощущая себя самим собой, а не Пьером или Мишелем.