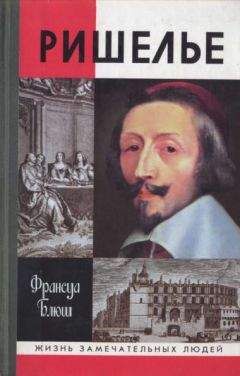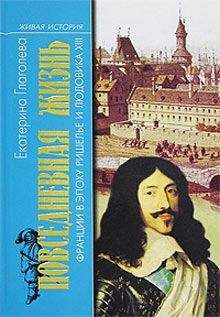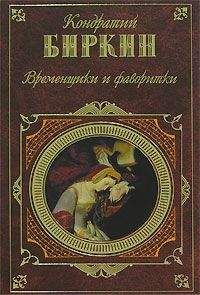Фэй Уэлдон - Подруги
Хлоя. Оливер, а ведь они, как ни удивительно, до сих пор согласны печатать книгу. Подумай, может быть, все-таки есть смысл хотя бы показать твоим сестрам рукопись — посмотрим, узнают они себя или нет?
Оливер. Благодарю покорно. Очень мне нужно, чтобы родные сестры подали на меня в суд. Мало я из-за этих тяжб натерпелся в молодости. С меня хватит.
Хлоя слишком много себе позволила. И к тому же пропустила автобус. Дома теперь несколько дней будет сплошное несчастье, да и на работе не слаще.
Оливер. Я пришел на кухню, собираясь сказать что-то важное, а мне вместо этого в очередной раз навязывают перебранку и сведение счетов. Я не хочу с тобой браниться, Хлоя. Мне это — нож острый в сердце. Я хочу спокойно и трезво поговорить о Франсуазе.
Хлоя. Ах, вот что. О Франсуазе. Про это я знаю.
Оливер. Откуда?
Хлоя. Я застилаю постели.
Оливер. Постели обязана застилать Франсуаза, я ей деньги плачу за это.
Хлоя. У нее и так хватает дел. А плачу ей, кстати, я.
Оливер. Все правильно, она делает за тебя работу, ты отдаешь ей часть своего заработка.
Хлоя. Да я не жалуюсь.
Оливер. А я — жалуюсь. У тебя так мало остается, что ты практически не участвуешь в общих расходах. Содержать этот кошмарный дом становится немыслимо. Дети позволяют себе черт-те что — никто и не думает их одергивать. Электричество, как я убедился, горит всю ночь, приемники и те не выключаются. А тут еще на носу школьные каникулы, ублюдки нагрянут всей оравой…
Хлоя (свирепо). Они не ублюдки.
Оливер. Я пошутил. Видишь, Хлоя, ты ищешь случая устроить скандал. Это чересчур далеко зашло, в такой тяжелой обстановке находиться нестерпимо. Как я могу писать, если у меня нет покоя в семье?
Хлоя. Если бы мы, как раньше, спали вместе — то есть, я хочу сказать, просто в одной комнате…
Оливер. Ты храпишь. От этого с ума можно сойти.
Хлоя. Или хотя бы…
Оливер. Нет.
Хлоя. Это началось с тех пор, как появилась Имоджин.
Оливер. Что за вздор. Имоджин появилась восемь лет назад. Я признал девочку как свою родную дочь. Чего еще ты можешь требовать?
Хлоя. Но меня ты с тех пор не признаешь.
Оливер. Чепуху ты говоришь. Раз тебе захотелось переспать с Патриком Бейтсом, ты имела на это полное право. Каждый из нас должен быть волен следовать своим плотским влечениям.
Хлоя. Таким, как Франсуаза, ты имеешь в виду.
Оливер. Да.
Хлоя (в слезах). Это Имоджин нам напортила, сознайся.
А как же, разумеется, напортила, маленькая прелестница, длинноногая, синеглазая щебетунья с рыжеватой головкой и ямочкой на подбородке. Отсекла Хлою и Оливера друг от друга, точно скальпель хирурга, разъединяющий сиамских близнецов, обрекая каждого жить отныне своей, обособленной жизнью. С мясом оторвала друг от друга — у Оливера словно дыра осталась зиять в боку, сквозь которую от него утекает жизненная энергия.
Жуж-жж-ит! Это, подобно авиабомбе, врезается в толщу Оливеровой жизни Патрик Бейтс. Бабах! Падает бомба, чиня гибель и опустошение, сметая напрочь плоды чужих усилий. Что разбито, то разбито; как ни склеивай, ни латай — со стороны, может, и не заметят, но ты, кто своими глазами наблюдал, как образовалась трещина, знаешь, что все уже не то.
Оливер смотрит на Имоджин, делает все, что положено делать отцу, а в развороченном боку такая боль, словно туда всадили нож.
Оливер ходит по врачам, жалуясь на боль в боку, и врачи теряются, не находя ей объяснения.
(«Погоди, теперь он провозгласит, что его жжет клеймо позора», — предупреждает Хлою Грейс. И Хлоя, встречаясь с Марджори, говорит, что с Грейс стало невозможно общаться — все умничает. «Только слова, и ни капли чувства», — сетует Хлоя одной своей подруге на другую.)
— Ничего Имоджин не напортила, — отвечает Хлое Оливер. — Я прослежу, чтобы утром Франсуаза была у себя в комнате. Незачем сбивать с толку детей. А ты помни, что я тебя очень люблю. А Франсуаза помогает мне наладить сон.
— Очень она волосатая, ты не находишь? — говорит Хлоя.
— Свидетельство страстной натуры, — говорит Оливер, и Хлоя не развивает эту тему, опасаясь, как бы та боль, что теснит ей грудь, не переместилась в сознание, чего, впрочем, не произойдет, если соблюдать меры предосторожности.
— Я опоздала на автобус, — упавшим голосом говорит Хлоя.
— Я тебя сам отвезу, — великодушно объявляет Оливер, и действительно отвозит, и по дороге в Кембридж пытается изложить ей причины своего недовольства тем, что она ходит на службу. Хлоя, говорит он, нужна ему дома. Только тогда у него спокойно на душе. А теперь, когда у него пошла наконец работа над романом, ему прямо-таки необходимо, чтобы она была рядом в течение дня, на случай, если ему понадобится прочесть написанное вслух, проверить, ритмично ли он строит фразы. Да нет, конечно, Франсуаза для этого не годится. Во-первых, она иностранка. А потом, он вовсе не полагается на ее суждение и творческое чутье, как полагается на Хлоины. Ему нужна Хлоя, и никто другой, пусть она это усвоит. Она его жена. Ей всецело отданы его чувства, с нею связано его прошлое, настоящее, будущее. Просто в одной-единственной области, притом столь ограниченной и малозначащей, как секс, ему нужна другая женщина, моложе и чтобы не храпела и принимала такие отношения естественно и пристойно, а Франсуаза как нельзя лучше отвечает этим требованиям, да еще и снимает с Хлоиных плеч бремя домашних забот. Так вот, не может ли Хлоя попросить у старшего товароведа, чтобы на те три месяца, пока он допишет середину романа, ей дали отпуск? А точнее, с сегодняшнего дня? Если ее хозяева считают, что она ценный работник, то с удовольствием пойдут ей навстречу.
Хлоя просит об отпуске. Хлоя теряет работу.
— Ты была не на своем месте, — говорит Оливер, — потому и не произвела должного впечатления. Иначе тебя постарались бы удержать любой ценой, зная, что это окупится. И слава богу, что ты с ними разделалась, а то поглядела бы на себя — вечно усталая, подавленная, в скверном настроении. Фурункулами пошла.
К Хлое возвращается нормальное расположение духа, Оливера покидает недовольство, и в доме воцаряется благодать. Дети, получив опять возможность дышать свободно, расцветают.
Франсуаза ложится в полночь, час бодрствует и ровно в час ночи переходит со своей постели на Оливерову, а в два часа утра, приготовив Оливеру на сон грядущий чашку горячего шоколада, возвращается снова к себе. В восемь она встает и помогает Хлое накормить детей завтраком. Хлоя же встает в полвосьмого и сажает в духовку хлеб, которым Оливер позавтракает в девять. Хлеб пропекается до готовности за полчаса, а потом целый час остывает. Горячий хлеб, как известно, вреден для пищеварения.
С двенадцати до двух часов дня Хлоя сидит у Оливера (Имоджин, которая не слишком пылко обожает Франсуазу, с некоторых пор перешла на школьные обеды, не дрогнув перед засильем капусты и прочих гадостей) и дожидается, не возникнет ли у него потребность ей почитать. Время от времени воздух оглашают отдельные пассажи — чаще стоит тишина. С десяти до одиннадцати Оливер усердно печатает, с одиннадцати до двенадцати перечитывает и обдумывает написанное и сплошь да рядом яростно все перечеркивает. Настает день, когда он объявляет, что, по всей видимости, Хлоино присутствие тормозит полет его творческой мысли; вслед за тем Хлоя сидит уже в гостиной и ждет, когда в ней возникнет надобность. Проходит еще некоторое время, и надобность перестает возникать начисто, и вот тогда-то, в одно весеннее утро, ей приходит фантазия съездить на денек в Лондон и потолковать с подругами. С Грейс и Марджори.
У которых, если вдуматься, вполне хватает собственных бед. Стоит ли удивляться, если они не находят ни сил, ни времени особенно вдаваться в Хлоины беды и способны лишь бросить ей на ходу необдуманный, а может быть, и нарочито неверный совет: «Разводись! Бросай его! Гони ее вон!» И вправе ли она считать, что не заслужила такого? Но все-таки она на них в обиде.
44
Марджори, Грейс и я.
Марджори выпало накоротке свести знакомство со смертью. Печальные карие глаза ее будто созданы для созерцания Костлявой, крепкие ноги — для того, чтобы споткнуться о бездыханное тело на полу. Патрик Бейтс сказал однажды, что от нее разит тленом и потому она единственная в мире женщина, с которой он, переспав один раз, больше спать не желает. Даже в юности кожа у нее была шершавая — шелушилась от сухости, словно не у подростка, а у умирающей.
Девочкой Марджори смело подбирала дохлых птиц — пусть даже в них уже завелись черви — и хоронила в земле. Мы с Грейс отводили глаза.