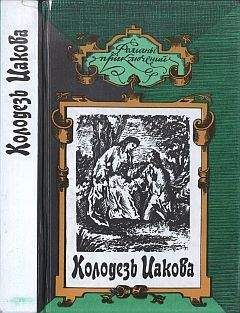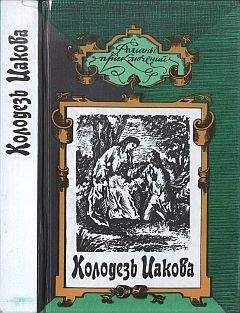Онелио Кардосо - Онелио Хорхе Кардосо - Избранные рассказы
Как-то утром подошла к нему сзади Исабелита и робко проговорила:
— Папа, Фернандес хочет, чтобы я стала его женой.
— Ну, а ты что?
— Я говорю, как папа велит.
Старик и на этот раз ничего не сказал. Только кивнул: согласен, мол. И невдомек дочке, чего это ее отцу стоило, как клокотало у него внутри, когда он соглашался и тряс седой головой.
С тех пор и переселилась его четырнадцатилетняя дочь на ранчо Фернандеса. И вроде бы ничуть не переменилась, все такая же тихоня, как была, разве что теперь у нее появились башмаки.
— Зачем вы пытаетесь изменить мир? Пустое дело, горбатого не исправишь, — пробормотал старик и, повернувшись на бок, несколько раз стукнул кулаком по гладкой парусине гамака.
Спустя два часа он уже спал и видел сон. Старику снилось, что все окрестные болота разлились, а он лежит в гамаке и смотрит, как проносится под ним мутный поток, увлекая за собой людей. Тракторы и бульдозеры тоже плывут по воде в сторону Рио-Негро, потом река выносит людей и машины в открытое море.
Наконец ночь подошла к концу; открыв глаза, старик увидел солнце, встающее из-за макушек деревьев. Последнюю остановку он сделает у ранчо Монго Лопеса: попробует продать ему за любую цену связку жердей, которую везет с собой в лодке. Если даже Монго успел нажечь гору угля, все равно вряд ли он откажется от лишней вязанки, тем более что старик готов уступить ее почти задаром. А там… Он уже все обдумал: доплывет до устья Рио-Негро, выйдет в море и, держась вдоль берега, доберется до первого попавшегося городка. Оттуда подастся в глубь острова, подыщет работенку в каком-нибудь глухом селении, где его никто не знает, и останется там навсегда.
«Вот только руки у меня староваты для работы, — невольно подумал угольщик. — Да и для ласк они староваты. — И сам на себя рассердился: — Какие там ласки! Потрудились бы еще немножко, и то ладно!»
Он тряхнул головой и, вглядываясь в даль, еще усерднее заработал шестом.
Солнце обошло уже полнеба, когда он увидел на другом берегу костер и ранчо Монго Лопеса.
— Монго, погляди, что я тебе привез!
Серебристые сабало выпрыгивали из мутноватой речной воды почти у самого носа лодки. Взмахнув над головой веревкой, старик швырнул ее угольщику.
— Цену назначай сам.
Монго на лету поймал брошенный конец.
— Причаливай, — сказал он.
Пока все шло как надо. За такие стволы Монго вполне мог отвалить ему восемь песо. С деньжатами, что он заработал на валке леса, это уже кое-что, на первое время хватит. Монго ждал, пока старик пристанет, и по его виду было незаметно, что он заинтересовался предложением.
— Тебя уже несколько дней разыскивают, — огорошил он старика.
— Меня? Кто? — Старик сошел на берег и пристально взглянул в глаза Монго.
— Сначала скажи, сколько ты не был дома.
— Тыщу лет! Кого это касается, кроме меня?
— Твоих родных, Лоренсо.
— Вот еще, — проворчал старик, а сам не сводил глаз с Монго. Но угольщик уже прикусил язык, видно, пожалев, что сболтнул лишку.
— Говорю тебе, мое это дело.
— Лоренсо, тут такая история вышла… Словом, разыскивают тебя.
— Кто? — Он сразу подумал про Исабелиту. — Уж не беда ли какая, Монго?
— Как тебе сказать… Беда не беда, но все же… Дочка-то твоя, что замужем была за этим…
— И что же она?
— Она-то ничего, а вот муженек ее… Сбежал он две недели назад. Морем ушел с богачами из Матан- саса на краденой яхте. Бросил он твою дочку.
Старик ничего не сказал и принялся разглядывать указательный палец на левой руке. Потом поднял голову и каким-то странным голосом спросил у Монго:
— Откуда ты про это знаешь?
— Приплыли вчера под вечер из низовьев…
— Кто?
— Паренек один, в военной форме, а с ним дочка твоя.
— Тот бородач, что ли?
— Нет, другой, помоложе. Годков двадцать ему будет, не больше.
Старик задышал часто-часто и так посмотрел на угольщика, словно не верил собственным ушам.
— Честное слово! Молодой парень и в одной лодке с твоей Исабелитой. Ты уж извини меня, Лоренсо, но у нее был такой вид, будто она впервые с мужчиной. Мордашка так и сияет.
Монго Лопес был уверен, что старик разразится проклятиями, так он побагровел, да опять не угадал. Лоренсо неожиданно вытянул руки и понес какую-то околесицу:
— Монго, у этого двадцатилетнего паренька не такие руки, как у меня или Фернандеса! — И захохотал.
А между тем солнце уже почти пересекло реку, в которой по-прежнему резвились неугомонные сабало.
1963.
Синсонте
(Перевод В. Капанадзе)
Вроде бы не один десяток лет Пепе Лесмес деревья в лесу валил да уголь выжигал, а все равно не лежала у него душа к этому делу.
Не верите? А если я вам скажу, что мог он часами любоваться деревом, отраженным в болотной воде, но на само деревце, стройное да крепкое, бывало, и не взглянет?
Ежели ты угольщик, что тебе в дереве главное? Чтобы древесина у него была потверже — тогда и уголек получится на славу. А на отражение в воде смотри не смотри — толку не будет: костра из него не сложишь и угля, как ни старайся, не выжжешь.
Только бесполезно было Лесмесу это втолковывать. Такой уж он, видно, уродился, и про все его чудачества люди обычно так говорили: штучки Пепе Лесмеса. Скажут — и всякому ясно, о чем речь.
А еще любил Пепе, чтобы его люди слушали. Что твоя птица или поэт какой. Вот, к примеру, видите вы на ветке синсонте, слышите, как она заливается, и небось думаете — это она утро песней встречает, ан нет. Поет эта птица, чтобы ее еще и послушали — так и купается в трелях, точно воробьи в золе кострища. Вот и выходит, что песня для синсонте — тот же мед, и чем дольше она ее распевает, тем больше пьянеет от счастья.
Так и Пепе Лесмес.
Уразумел он однажды, что умеет складно говорить, и с тех пор только и думал, как бы покрасивее да позаковыристей историю сплести. Я его байки все до единой помню. Вот, скажем, о тех же деревьях.
«Все деревья в лесу мне друзья и братья, — хвалился Пепе. — Даром что бессловесные, а все понимают. Я к ним с подходом, так, мол, и так, говорю, надо бы мне угольком разжиться, а они только посмеиваются, знают — мои руки против их ветвей ничего не стоят. Им ли не знать, что нет у меня корней: ударь разок топором, и побегов уже не дождешься. Другое дело деревья: свалишь наземь, а через месяц, глядишь, новая поросль пошла. Сколько их ни руби, сколько ни переводи на уголь, им хоть бы что, потому как от пня новые побеги идут. Разве мне с ними сравниться? Лягу в землю, и ничего от меня не останется: ни семян, ни отростков».
Слушали мы Пепе и смеялись: одни — рассказам его, другие — неизвестно чему. На первых порах мы его все подзадоривали, а он и рад стараться, разойдется, словно после хорошего стаканчика. И вот что любопытно: не столько сама история забавляла, сколько то, как он все поворачивал. Рассказывает, к примеру, про охоту и вдруг ни с того ни с сего ввернет, будто голубь так высоко летал, что «с самим господом мог беседовать».
И все же не мы, взрослые, были его главными слушателями, а ребятишки. Усядутся, бывало, кружком на землю шестеро или семеро босоногих сорванцов и разинут рты, словечка не пропустят. А Пепе им очередную небылицу подсовывает: про то же мангровое дерево, что не давало себя срубить и от топора бегало.
«Росло в лесу деревце: молодое, ствол коричневый, как шоколад, и такое прямое, что верхушкой в самую высокую звездочку на небе смотрело. И вот набрел раз на него один угольщик, весь в поту, усталый, потому что с утра в лесу топором махал. Посмотрел угольщик на дерево и думает: „Завтра срублю его под корень, даже пня не оставлю. Сегодня уже поздно, да и притомился я очень“.
Пошел угольщик к себе на ранчо, проспал ночь и утром отправился прямехонько туда, где дерево росло. Глядь, а того и след простыл. „Что за напасть! — думает. — Никак, его кто-то срубил. Ведь еще вечером здесь росло, на этой самой поляне“.
Тут поднял угольщик голову и видит — деревце, которое он облюбовал, уже на другом месте растет: в тени своего братца, красного мангра, притулилось, словно защиты у него ищет. „Стало быть, подслушало оно вчера мои мысли! — решил угольщик и, сделав вид, будто не смотрит на дерево, тихонько подкрался к нему и сказал про себя: — Завтра утром все равно срублю. Хороший шест для лодки получится“.
Пришел он на следующее утро, а рядом с красным мангром пусто. Ноги угольщика так и приросли к земле, словно сам в дерево обратился. „Что за чертовщина! Куда же оно опять подевалось?“ — думает. Стал он вокруг озираться и увидел свое деревце. Стояло оно на самом берегу канала и словно посмеивалось: мне, мол, и через канал, в случае чего, перемахнуть — плевое дело!
— Нет уж, такое дерево я не стану рубить! — воскликнул угольщик. Подошел он к нему не таясь да и выложил, что на уме было: — Слово даю, не трону я тебя. Перебирайся лучше к моему дому, будем дружбу водить.